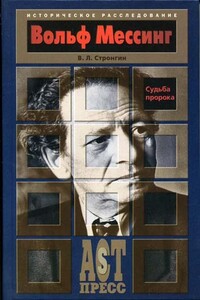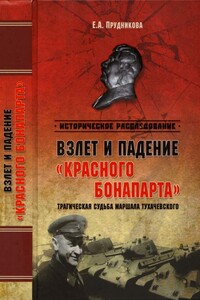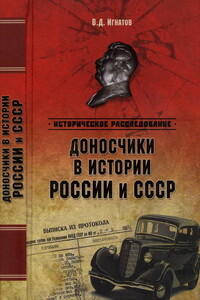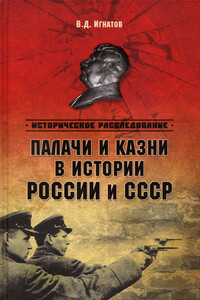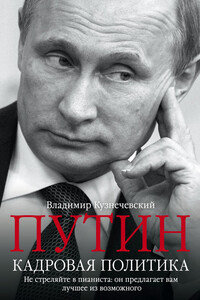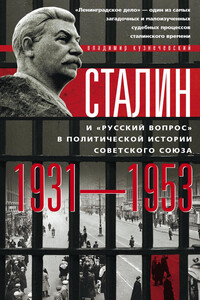Сталин: как это было? Феномен XX века | страница 23
Однако вождь пролетариата отлично понимал, что весовые категории его партии и российской интеллигенции несопоставимы: в очных дискуссиях о путях развития российского общества большевики не устоят перед аргументами «членов ученых обществ». И потому предложил: за публичное выражение взглядов, несовместимых с официальной идеологией, следует наказывать расстрелом: «За публичное оказательство меньшевизма наши революционные суды должны расстреливать, а иначе это не наши суды, а бог знает что такое». Предвидя возражения, что в условиях мирного времени такая мера может показаться слишком жестокой, Ленин поясняет: «…мы сейчас в гораздо более трудных условиях, чем при прямом нашествии белых»>{28}. И тут же от слов переходит к делу, пишет записку наркому юстиции Д.И. Курскому, требуя найти такие формулировки для Уголовного кодекса РСФСР, которые позволяли бы карать расстрелом за пропаганду или агитацию против официальной идеологии. При этом уточняет, что речь должна идти не только о фактах пропаганды или агитации, но также и о таких деяниях, которые всего лишь «способны содействовать» этому>{29}.
Но в 1922-м на массовые аресты и, тем паче, расстрелы интеллигенции Ленин еще решиться не смог. Много позже это сделали его ближайшие последователи. Так, когда в мае—июне 1928 года в Москве шел процесс по так называемому Шахтинскому делу, по которому группа инженеров и техников обвинялась в саботаже и диверсиях, вопрос рассматривался на Политбюро ЦК РКП(б). Сталин выступил за смягчение наказания, но вынесен был смертный приговор.
Бухарин позже рассказывал: «Сталин предлагал никого не расстреливать по Шахтинскому делу, но мы с Томским и Рыковым сговорились и голоснули за расстрел», и большинство членов Политбюро поддержало эту группу, а не Сталина>{30}.
Но это было уже после смерти Ленина. А в 1922-м Ленин на расстрел еще не решился, приказал Дзержинскому арестовать сотни ученых и отправить их за границу (знаменитые «философские пароходы»)>{31}. И это было проделано в то время, когда экономика страны остро нуждалась в образованных, опытных управленческих кадрах, а оставшаяся после Гражданской войны в Советской России интеллигенция готова была служить Родине. Не большевикам, но стране и своему народу. Как говорил и писал Питирим Сорокин, тоже высланный из России властью, русская интеллигенция хоть и не разделяла марксистских воззрений и считала, что ее «активное участие в государственной и политической жизни становится невозможным», jeM не менее все же отвергала идею эмиграции, полагая, что если заняться неполитической деятельностью (научной, культурной и т.д.), то власти скоро поймут, что эта деятельность интеллигенции представляет собой огромную важность для укрепления государственного устройства новой России