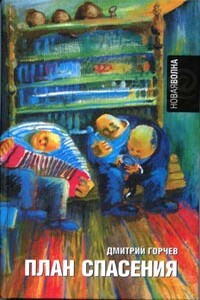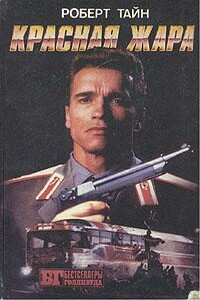Откровение огня | страница 18
Отрок, не вникший в откровение огня, презрит землю.
Муж, не внявший земле, не удостоится откровения воздуха.
Старец, не получивший откровения воздуха, впадет в детство».
Гальчиков из Московской патриархии охотно согласился найти для меня фактические данные о Евларии и кенергийцах. Он обещал мне их сообщить уже на следующий день, однако, когда я ему позвонил, его ответ был короток:
— Инок Евларий в нашей церковной жизни никак не выделился, и о так называемых кенергийцах нам ничего не известно.
— Как же тогда понимать сообщение в «Историческом вестнике»? — спросил я его.
— Это, должно быть, недоразумение.
Еще одно недоразумение. Недоразумениям я всегда не доверял.
— Кстати, а откуда «Откровение огня» поступило в АКИП? Что указано на этот счет в каталожной карточке? — поинтересовался вдруг Гальчиков.
— Рукопись приобретена у какого-то частного лица. В таких случаях АКИП прежнее местонахождение книг посетителям не сообщает.
— Мда, похоже, что дело безнадежно со всех сторон. — заключил тот, на кого я надеялся, и разговор окончился.
«Недоразумения» вокруг «Откровения огня» не оставляли меня в покое. Я решил покопаться в научной литературе и обратился к систематизированному каталогу Библиотеки Ленина. В ее гигантском фонде, который, как считается, уступает по объему только библиотеке американского Национального Конгресса, оказалось считанное количество монографий, посвященных русским духовным течениям — впрочем, последних было и в действительности немного. Просмотрев именные и предметные указатели всех сколько-нибудь значительных работ, я установил очередную странность: «самая интригующая древнерусская рукопись» нигде не упоминалась. Было такое впечатление, что специалисты по религиозной литературе, исследователи апокрифов, историки церкви о ней и не слышали. Кого же она тогда интриговала? С этим вопросом я уперся в глухую стену. Оставалось признать, что ходу дальше нет, и вернуться к диссертации. И только я это сделал, как по чистой случайности, с совершенно неожиданной стороны, вышел на бесценный источник информации. Получилось это так.
Мне потребовалось посмотреть статью о русских погребальных традициях, которая была опубликована в Научных записках Томского университета за декабрь 1913 г. В разделе о схожих эсхатологических мотивах в славянских и азиатских легендах я обнаружил любопытный пассаж:
«В одном из рязанских монастырей, а именно — в Захарьиной пустыни у Красного села Суровского уезда, монахами практиковалось так называемое „высокое пение