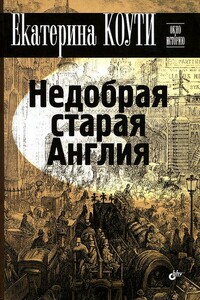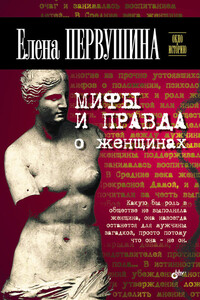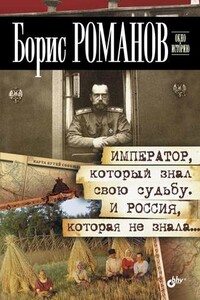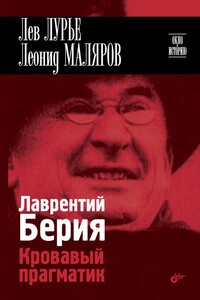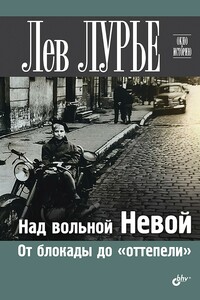Питерщики. Русский капитализм. Первая попытка | страница 60
Рыботорговец-миллионер А. П. Сапожников, обладатель прекрасного собрания западноевропейской живописи (Леонардо да Винчи, Рубенс, Ван-Дейк), по жене родственник городского головы Н. И. Кусова, был шурином декабриста Я. И. Ростовцева. Либеральные взгляды Сапожникова чуть не привели его самого в тайное общество. За день до восстания купеческая осторожность взяла свое, и он посоветовал зятю во всем повиниться будущему императору Николаю I, что тот, как известно, и сделал, став любимым флигель-адъютантом грозного императора.
Вольский купец Злобин устраивал в окрестностях Петербурга праздники с музыкой, фейерверками и роскошными ужинами, на которые собирались сливки чиновного Петербурга, включая шефа жандармов А. X. Бенкендорфа.
Главными фигурами петербургской поповщины николаевского времени были купцы-миллионеры Сергей и Федул Громовы родом из Гуслиц.
В Петербурге братьям принадлежала Громовская лесная биржа – огромные торговые склады близ Смольного. Другая биржа Громовых находилась на левом берегу Фонтанки, напротив Апраксина двора. Официальным главой петербургского поповства считался попечитель «королевской» моленной Сергей Громов, жену которого Екатерину Ивановну старообрядцы называли «госпожой Дому Израилеву, истинной рабой Христовой». Но фактическим руководителем общины был младший из братьев, Федул – осторожный, но целеустремленный, меценат, коллекционер, владелец лучшей в Петербурге оранжереи на Аптекарском острове.
В 1835 г. «по прошению попечителей старообрядческого общества здешних купцов Сергея Громова и Никиты Дрябина» власти отвели землю для кладбища поповцев, названного по имени одного из его основателей Громовским.
Указом 1826 г. о снятии крестов со всех старообрядческих молитвенных домов Николай I начал непримиримую борьбу с расколом. К началу 1840-х годов были закрыты скиты поповцев на Иргизе и Керженце, запечатаны храмы Рогожского кладбища. «Удары правительственных репрессий, – пишет историк, – одинаково поражали и поповщину и беспоповщину, но чувствительнее всего они являлись для поповщины. Беспоповщина могла обходиться без молитвенных домов и попов; поповцы считали такое положение «богомерзкой ересью», для них культ без попа и часовни или церкви был немыслим. Поэтому гроза больнее всего отозвалась на поповщине; но она заставила поповцев собраться с силами и выработать такую организацию, которая ставила их культ вне всякой зависимости от синодальной церкви».