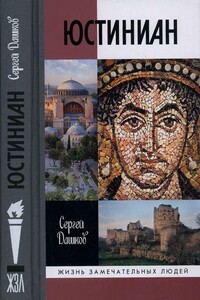Королевы смеха. Жизнь, которой не было? | страница 17
У семьи был сад на краю города; почти полгода жизнь проходила в саду. Там, под деревьями, стоял огромный стол. За стол садилось неимоверное число людей, в особенности на чьих-нибудь именинах, и если, бывало, спросят Елену Ивановну: «Кто эта дама или господин? Вон там, в конце стола?», она отвечала: «Не знаю, голубчик, но пусть себе сидят, кому они мешают?» И люди ее любили.
Училась Серафима очень хорошо. В возрасте четырех лет уже бегло читала и писала. В детский сад ходила вместе с шестилетним братом Николаем. Десяти лет выдержала вступительный экзамен в третий класс «голубой гимназии» (девочки носили голубые форменные платья»). Начальница была княгиня. Учились в мертвой традиции: пятерка по «Закону божьему» была обязательна, даже пять с минусом по этому предмету становилось непреодолимым препятствием к дальнейшему образованию… Друзей у Серафимы почти не было. Более красивые сверстницы не хотели с ней общаться, мальчишки кричали вслед: «Бледная, как смерть, тощая, как жердь!»
Несмотря на любовь к своему родному городу, Серафиме хотелось поскорее покинуть его: «Кишинев тех лет – город музыкальный, театральный, но я бы не сказала, что «умный», что очень активный в общественной жизни. Кишиневцы любили поесть, попить, поиграть в карты, пофлиртовать, добросовестно служили. Подростки служили «чему-нибудь и как-нибудь» в низших и средних учебных заведениях, молодежь постарше разъезжалась по университетским городам государства Российского. На студенческие каникулы слетались они домой, принося с собой дыхание больших городов, трепет общественных мыслей, отсветы гроз политической борьбы. Мы, гимназистки, видели студентов на вечерах, на благотворительных базарах, чувствовали, что они чем-то отличны от кишиневских обывателей. Но студенты стояли далеко от нас. Даже в родных семьях они вели себя, как знатные гости. Петербург! Москва! Киев! Одесса! Казань! Как мне хотелось в «большой город»! В другую, неведомую, но волшебную жизнь!..»
В театр Серафима Бирман впервые попала в одиннадцать лет. Когда она увидела человека в пудреном парике, и он произнес «Зофи» (вместо Софи), девочку прохватила дрожь, такая, что застучали зубы. Эта леденящая и обжигающая дрожь театра просыпалась в ней в дальнейшем не раз. Актриса считала, что когда эта внутренняя дрожь замрет – значит, душа пуста. А в тот первый раз, что она побывала в театре, полюбила его навсегда.
Старшая сестра уехала в Петербург, поступила на курсы и вся растворилась в науке. В 1906 году в Петербург на гастроли приехал Московский Художественный театр. Из бессарабского землячества администрация театра пригласила несколько курсисток для изображения толпы в «Докторе Штокмане». Живая, яркая, общительная сестра оказалась в числе избранных.