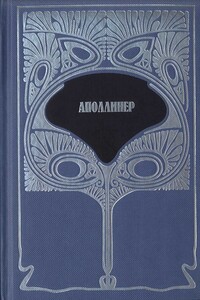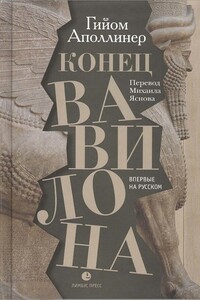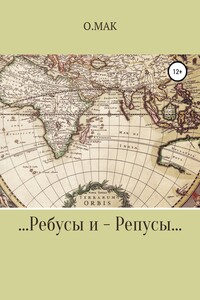Т. 2. Ересиарх и К°. Убиенный поэт | страница 69
С трудом заставил я себя дослушать до конца этот омерзительный рассказ. Я чувствовал какую-то необъяснимую дурноту, у меня стучало в висках, я испытывал непреодолимое отвращение к этому семейству и их вонючей лачуге. Фамарь Пертинакса Ретифа слушала, стоя очень прямо, с блуждающими глазами. Ее одутловатое лицо с расплывшимися от беременности чертами, вытянулось, как лицо голодной рабыни. Толстая нижняя губа, наследственный признак добродетели, отвисла, и прозрачная струйка слюны стекала на подбородок, подтверждая честное отупение и сучью преданность. Руки свисали, как плети. Очевидно, ее донимали вши, время от времени она вскидывала правую руку и принималась яростно скрести свою грязную голову. На безымянном пальце у нее я заметил грубое кольцо, в оправу был вставлен опал: камень, приносящий несчастье, гнусный камень, поганая смесь мочи, слюны, спермы и раздавленной склеры. Дети, слушая рассказ папаши, расплакались. Они хватали его за руки и целовали их. При виде подобных проявлений добродетели душа моя наполнилась какой-то слащавостью, в голове роились самые заурядные мысли. На глаза навернулись слезы, мир вокруг приобрел опалово-туманные очертания. Но, к счастью, мои сдерживаемые рыдания вызвали нечто вроде бортовой качки во чреве Фамари>{81}, я улыбнулся, ухмыльнулся, рассмеялся и снисходительно склонился, чтобы поцеловать руку этой женщине, которая в результате всех переживаний так комично потряхивала пузом.
Словно опасаясь преждевременных родов, Пертинакс Ретиф заботливо и участливо смотрел на это бурное чрево. И только шептал:
— О сестринское чрево жены моей! О жемчужина моя… драгоценная жемчужина!
Тогда-то эта чувствительная женщина, наконец, заговорила, и это были единственные слова, которые я от нее услыхал:
— Жемчужины умирают.
При этих словах слезы вновь навернулись мне на глаза, а Пертинакс Ретиф с фальшивым пафосом принялся декламировать стихи, которые, вне всякого сомнения, сочинил сам, в том числе и последнюю строку:
Слезы мои тотчас же высохли. Телодвижения юного Никола несколько поутихли. Я с удовольствием повторил:
Затем, обращаясь к старьевщику, я произнес:
— Друг мой, приятель мой, вот к чему привела ваша добродетель и добродетель господина Никола, вашего предка: вы просто-напросто старьевщик, а еще потомок императора!