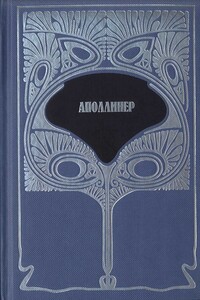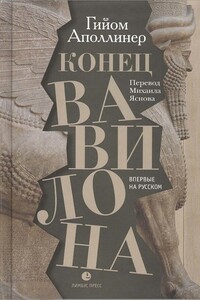Т. 2. Ересиарх и К°. Убиенный поэт | страница 60
— Прошу тебя, Пресвятая Дева! Я — бедный калека, caganido (птичий помет), исцели меня! Верни мне обе ноги, чтобы я мог зарабатывать себе на жизнь!
Потом голос сделался грубым и повелительным.
— Ты слышишь? Ты меня слышишь? Исцели меня!
И это продолжалось, перемежаясь богохульной икотой, проклятиями и завываниями:
— Исцели меня! Sacramento! Или я разобью тебе морду!
В этот миг зазвенел колокольчик, и все головы склонились, а священник высоко поднял гостию. Калека все твердил молитвы вперемешку с богохульствами. Колокольчик зазвонил в третий раз. И тут снова раздался крик:
— Амедео! Амедео!
Он грубо спросил ее на диалекте:
— Чего тебе надо?
Она ответила:
— Basme… (Поцелуй меня…)
Монах задрожал, на глаза у него навернулись слезы. Мать Аполлонии боязливо поглядела на него и сказала ему, указывая на дочь:
— Она больна.
И несколько раз настойчиво повторила:
— Больна! Больна! Marota! Marota!
Аполлония в изнеможении смотрела на него и шептала:
— Basme! Амедео! С тех пор как ты уехал, в моей жизни стало темно, как в волчьей глотке.
Ее мать повторила последние слова дочери:
— …Schir cmeʼn bucca a u luv.
Наклонившись над больной, монах нежно поцеловал ее и произнес:
— Аполлония…
А она прошептала:
— Амедео…
Мать сказала:
— Амедео, ты еще можешь покинуть монастырь. Вернись домой с нами. Она умрет без тебя.
Он все повторял:
— Аполлония…
Потом решительно выпрямился, приподнял свой клобук, стянул его с головы и бросил. Он развязал пояс-веревку, расстегнул рясу, стащил ее с себя и преобразился в неуклюжего пьемонтского мастерового в вязаной фуфайке и синих бархатных штанах, подпоясанных красным шерстяным поясом.
В глубине церкви раздавались смешки монакских девушек, слышалось: «Piafou! Piafi!» — так у них назывались пьемонтцы.
Ребенок, который хотел Богоматерь вместо куклы, плакал. Мать громко его бранила за то, что с его шеи исчезла ленточка с висевшей на ней сжатой в кулак рукой из коралла, которая должна была охранять малыша от сглаза.
Монах смотрел на паломников. Он чувствовал себя их братом — и одет был, как они, и говорил на их диалекте. Все смотрели на него в восторге и перешептывались:
— Чудо…
Он сделал знак брату Аполлонии. Двое мужчин нагнулись, чтобы поднять носилки.
Калека завывал:
— Проклятие! Исцели меня! Каналья! Сука! Исцели или я плюну тебе в лицо!
Амедей громко произнес:
— Эй вы, пойдемте, вернемся в Пьемонт.
Он вышел, неся носилки, а за ним устремилась толпа паломников с криками:
— Чудо!
Когда оказались за оградой монастыря, Аполлония с блуждающим взглядом привстала на носилках и, задыхаясь, пролепетала: