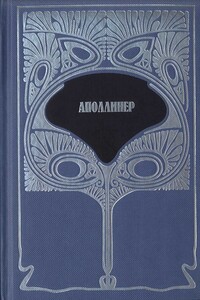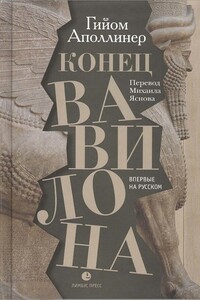Т. 2. Ересиарх и К°. Убиенный поэт | страница 48
В тот день на дороге, окаймленной могучими искривленными деревьями, Чево-вам высекал огонь, чтобы раскурить трубку…
Мимо шли четыре парня. Это были: Хинри де Виельсальм; Проспер-поденщик, тот, что раньше был бродягой, а потом работал недалеко от Парижа на очистительном заводе — теперь он жил в Ставло; охотник Гаспар Тассен, браконьерствовавший в Ванне: его шляпу украшало крыло ястреба и он курил вонючую можжевеловую трубку; наконец, Тома-Бабо, то есть дурачок, рабочий-кожевник из Мальмеди. У него была весьма хорошенькая жена, которая по этой причине спала с кем ни попадя, и с буржуа, и с рабочими, а он тем временем брюхатил при случае работниц фабрики или немецких служанок, которые, по его словам, любили с ним «шляфен», потому что он как никто другой умел делать бум-бум крепко и долго.
Чево-вам раскурил трубку, а затем побежал за ними с криком:
— Привет честной компании!
Они обернулись:
— Привет, красавчик!
Чево-вам радостно оглядел их и задал свой неизменный вопрос, источник его клички:
— Чего вам? Чего хотите? Черт побери! Послушайте мою гитару! Ну как, слышите?
Он дважды ударил по струнам. Гитара зазвенела.
— В ней так пусто, как у черта в кишках, когда он пукает. Прах меня побери! Бьюсь об заклад, что мы прямо сейчас пойдем выпить пеке у Шансесс! Во, слыхали?..
Он извлек из своей гитары аккорд и затянул «Брабансону». Но ему закричали:
— Перестаньте!
Тогда он запел Марсельезу, а после первого куплета крикнул:
— Прах меня побери!
И завел:
Но Бабо повторил:
— Перестаньте! Вы — пруссак, не знающий по-немецки… Перестаньте!.. Я хочу «шляфен» с Шансесс.
И парни затянули хором:
Они вошли в заведение Шансесс. Она сидела, широко расставив ноги, и читала молитвы, перебирая четки. Ее груди как снежная лавина рвались на волю из-под куцей ночной рубашонки.
В углу поэт Гийам рассуждал сам с собой над стаканом пеке. Войдя, парни поздоровались:
— День добрый вам обоим!
Гийам и Шансесс отозвались:
— День добрый всем вам!
Она принесла стаканы и налила пеке; тем временем они запели:
Подошел Гийам:
— Чего вам? — изрек гитарист, закуривая трубку.