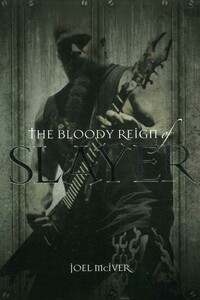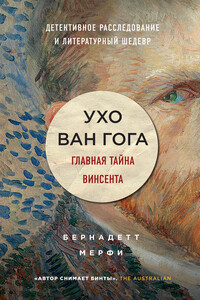Меня зовут Астрагаль | страница 30
Но на дверь я все-таки поглядывала. Хоть бы пришла Нини. Мне хотелось видеть знакомое лицо, чтобы не терять связи со ставшим привычным миром; вступая в новый и теряя из виду родные берега, я чуть ли не с жалостью думала о своей покинутой берлоге, темноватой и холодной… не слишком ли здесь много света, всё как на ладони: тень рассеется, и все узнают, кто я… Да полно, даже если бы в эту больницу каким-то чудом дошло извещение о розыске, проверку в ней устроили бы тут же, еще в то время, когда я жила у матери Жюльена. И вообще я сестра Нини, записанная под ее фамилией, такой же безликой, как те, что стоят до и после в списках приемного покоя. Здесь мое настоящее имя – мой диагноз, моя сломанная косточка… как там сказал врач: аст-ра-галь?[3] Жаль, нет под рукой анатомического атласа. Астрагаль теперь заменяет мне и имя, и лицо.
Вошла старшая сестра, толкая перед собой столик на колесах, уставленный коробками с бинтами и пластмассовыми пузырьками с желтой, фиолетовой, бесцветной жидкостями… Описав вираж, она рулит прямо в мой угол.
– В какую половинку укол? – Сестра приготовила шприц и окунула ватку в эфир.
– О, все равно!
– Поднимите рубашку и повернитесь.
Я поворачиваюсь, и рубашка с разрезом сзади сама откидывается, выставляя голый зад. Все последние годы приказ “разденьтесь!” предписывал скинуть все одежки до единой и предвещал строгий обыск; даже после многих месяцев в камере с ежедневным осмотром постели и лифчика надзирательницы с неослабевающей бдительностью обшаривали меня после каждого допроса у следователя. “Поставьте ногу на табуретку. Кашляните… Так”. Поэтому, услышав здесь, в больнице, знакомое “разденьтесь!”, я автоматически обнажилась совсем. Тюрьма въелась в меня, я обнаруживала ее в своих рефлексах: в привычке вздрагивать, таиться, повиноваться, в каждом движении и поступке. Да и нельзя разом сбросить все, что скопилось за годы скрупулезной муштры и постоянного притворства. Я обрела физическую свободу, но вдруг оказалось, что дух, дотоле мой единственный оплот, стал рабом укоренившихся привычек; напускное смирение переросло в самую настоящую робость; чего-чего, а уж нахальства я в тюрьме набралась, а вот поди ж ты, спрашивала позволения на простейшие вещи и у матери Жюльена, и у Пьера, поминутно повторяла “пожалуйста” да “можно я…” и все старалась держать руки на виду, а если вспоминала, что свободна, то становилась неловкой или нарочито развязной.
Все получалось неуклюже; желая освоиться, я делала промах за промахом; приобретенная опасливость и врожденная бесцеремонность сослужили мне одинаково дурную службу. К тому же я плохо ориентировалась в среде, куда ввел меня Жюльен, ведь в тюрьме я сталкивалась все больше с новичками, а не с настоящими блатными. Чтобы понравиться Жюльену и, ради него, его друзьям, я молчала с умным видом, скрывая свое невежество, или корчила из себя прожженную, искушенную девицу, выражалась языком героев детективных романов или мольеровских “смешных жеманниц”. То и другое выглядело смешно и глупо.