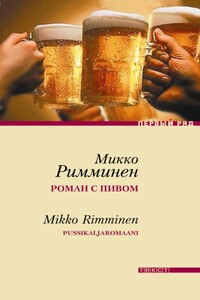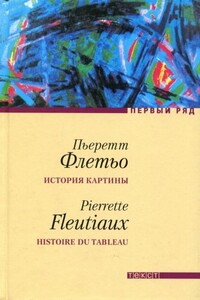Обожание | страница 49
Слово «эксплуатация» — это еще слабо сказано, ваша честь. Слабо и банально. Все артисты творят, так сказать, «из себя», но у Космо не существовало ни малейшей дистанции, никакой разницы между жизнью и творчеством. В его случае нужно говорить о жизнетворчестве или творчествожизни; для него это было одно и то же. Если журналисты донимали Космо вопросом, почему он всегда работает соло, он возражал, что никогда не бывает на сцене один, что в нем живут тысячи разных существ и выражают через него свои чувства, другие артисты месяцами играют одну и ту же роль, произнося заученный текст. Если же кто-нибудь — как Франк в этом суде — обвинял его в людоедском отношении к окружающим, он реагировал молниеносно: совсем наоборот!
Прочитаю вам отрывок интервью Космо, записанного на радио: Обычно люди друг друга не слушают. Как только я произношу со сцены фразы, которые в устах друга или соседа кажутся банальными и занудными, они становятся душераздирающими, значительными, незабываемыми. Я не «пожираю» людей, а одариваю их бессмертием.
КЛЕМЕНТИНА
Малыш Шарль не выносил, когда люди страдали. Чтобы понять такой спектакль, необходимо это знать. Он жалел не только людей, но и животных. Мой мальчик всегда был таким. Если муха билась в стекло, он ставил себя на место этой мухи, и у него начинала болеть голова. Однажды он прибежал ко мне, страшно рыдая, потому что служащий его дедушки Коттро взял ружье и забавы ради подстрелил сороку. Мертвая птица упала к ногам малыша. Голова сороки висела на ниточке, он подобрал ее и прибежал ко мне: «Посмотри, Тишина!»… Так и вижу его с сорокой в руках — размером птица была почти с него: «Посмотри, Тишина!» Так вот, верите ли, ваша честь, видя, как он горюет, я взяла нитку с иголкой, надела очки, фартук, чтобы не испачкать платье, и зашила мертвой сороке шею. Точь-в-точь как врач. Передать вам не могу, до чего он обрадовался, малыш Шарло! Держи, малыш, сказала я, твоей сороке уже не больно! И голова у нее снова на небе!
Я была их ближайшей соседкой, и Шарль частенько забегал ко мне. В буфете у меня стояла белая жестянка, в ней всегда было печенье, и малыш знал, что может не спрашивать разрешения — я любила смотреть, как он ест. Своих детей у меня не было, муж, как у многих других, погиб под Верденом, другой семьи я не завела, вот и радовалась, что сын соседей любит ко мне заходить. Иногда мы просто болтали, но, если что-то его огорчало, он плакался мне в жилетку, потому что его родная мать за весь день ни разу не присаживалась, ей было не до нежностей. Жозетта была занята с утра до вечера — вытирала пыль, мыла, чистила, натирала… Думаю, экрану телевизора досталось больше ласк, чем ее сыну. Что уж там говорить — чистота в их доме царила идеальная! Можно было подумать, они ждали в гости Господа Бога собственной персоной, но Он так и не пришел! Мебель всегда была покрыта чехлами, столешница так блестела, что прикоснуться страшно, а чтобы не испачкать пол, следовало повсюду ходить в тапочках… Я не была такой занудой, меня не смущали крошки хлеба на клеенке, пыль на шкафу или паутина в углу под потолком, зато на заднем дворе стояли клетки с кроликами, а рядом — загон для кур, и он мог играть с кроликами и помогал мне собирать яйца. Как же мы с ним смеялись! Я пела ему все песенки моей молодости! Однажды, в день святого Блеза, в деревне устроили праздник. Я научила Шарля петь смешные куплеты, надела на него хорошенький капор и мои старые панталоны с буфами — они были на мне в 1912 году, на моей свадьбе, — у них еще разрез в соответствующем месте. Я показала Шарлю, как нужно кокетничать, чуточку приподнимая юбки и показывая оборочку панталон, как бросать кокетливые взгляды направо и налево, и на сцене он произвел фурор…