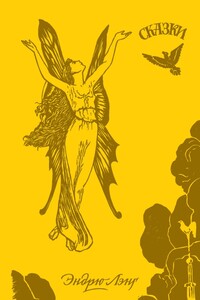Происхождение религии | страница 13
Здесь мы, по всей видимости, имеем дело с фактами, находящимися за пределами нашего опыта.
Во всяком случае, древний человек пришел (согласно нашей гипотезе) к абстрактной идее жизни задолго до того, как он впервые «выразил» ее в материальных терминах «дыхание» или «тень». Затем он решил, что не только дыхание или тень соответствуют более абстрактному понятию «жизнь»; жизнь могла проявлять себя также в реальных и телесно воплощенных формах, к которым относятся галлюцинации сновидений и видения во время бодрствования. Кажется, его рассуждения шли от более абстрактного (идея жизни) к более конкретному — к жизни поначалу неясной и призрачной, а затем охватывающей все стороны реально существующего человека.
Таким образом, м–р Тайлор (неважно, следуем мы его логике или нет) говорит о том, что человек вырабатывает теорию об активной, разумной, отдельной душе, которая может существовать после смерти тела. К этой теории древний человек приходит путем размышлений о природе жизни, а также о причинах призраков умерших или живущих людей, являющихся в «снах и видениях». Но наш автор, несомненно, оставляет вне поля своего зрения воздействие тех сверхнормальных феноменов, в которые верили дикари, на схожие с ними явления в современной цивилизации. Эти сверхнормальные феномены, реальные или иллюзорные, по его мнению, являются фактами тех переживаний, которые лежали в основе веры дикарей в существование отдельных, бессмертных, разумных душ или призраков, а это, в свою очередь, послужило фундаментом для религии.
Поскольку, благодаря нашему желанию остаться на своей точке зрения, мы испытываем замешательство при рассмотрении двух видов ранней философии — 1) инстинктивной и неосознанной веры, во всеобщую одушевленность, которую м–р Спенсер называет «анимизмом» и в которую он сам не верит; 2) основанной на размышлениях веры в существование отдельной, остающейся после смерти тела души человека (и вещей), в которую м–р Спенсер верит и которую м–р Тайлор называет «анимизмом» — мы должны упомянуть еще об одной трудности. Может показаться, м–р Тайлор считает это само собой разумеющимся, что первобытные, жившие очень давно и неизвестные нам люди, размышлявшие о жизни и о душе, находились на той же стадии психического развития, что и наши цивилизованные современники или, по крайней мере, современные дикари. Он проводит определенное различие между современными дикарями и нами, но не делает никакого различия между современными дикарями и давным–давно жившими людьми, которые стояли у истоков религии. Так, м–р Тайлор пишет: «Состояние современного духовидца, чье воображение от самого легкого возбуждения переходит к позитивным галлюцинациям, является скорее правилом, чем исключением среди некультурных и обладающих повышенной восприимчивостъю диких людей, сознание которых выходит из равновесия от одного прикосновения, слова, жеста, непривычного звука»