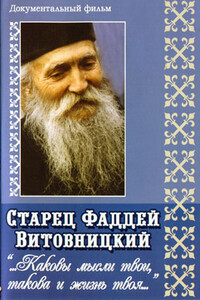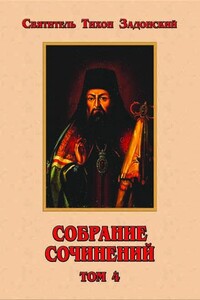Догматическая система святого Григория Нисского | страница 70
В своем опровержении учения Евномия, св. Василий выдвинул нечто вроде современного философского учения о Ding an Sich, — но в этом случае он совершенно опустил из виду, что это учение капитально грешит, когда отделяет вещь от её деятельного состояния. В действительности нет и не может быть таких вещей, которые бы стояли вне мировой цепи отношений. Если же все вещи непременно стоят друг к другу в определенных отношениях, то ясно, что они и выражают эти отношения сообразно с своей природой; следовательно, проявляют свою природу в определенной деятельности, и потому, говоря философски, являются тем, что́ они делают. Отсюда Евномий совершенно верно мог заключать, что в том имени, которое содержит сумму главных, характерных признаков вещи, выражается вся природа этой вещи, вся её сущность. Правда, ему замечали иногда, что каждая сущность может носить несколько разных имен: человека, например, называют разумным, свободным, царем земли, и пр., — между тем как сущность человека одна и та же; но это замечание легко устранялось им, когда он отделил закон бытия вещи от её проявлений. Проявления деятельности очень разнообразны, но закон, по которому вещь существует и действует, один и неизменен, потому что он положен Самим Богом. „Бог, — говорит он, — создал все это: и отношение, и действие, и соответствие, и согласовал название с каждым из именуемых (предметов), сообразно с законами (бытия этих предметов)“