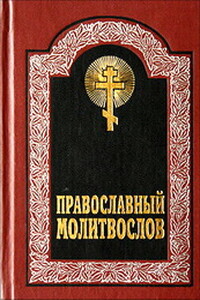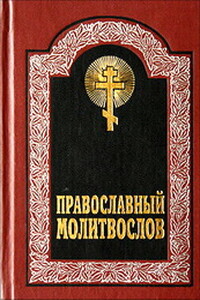Зона opus posth, или Рождение новой реальности | страница 47
Итак, преодолевая инерцию названий культурных коммерческих программ и модных фестивалей, девальвировавших понятие сакрального искусства, сообщим этому понятию большую точность и строгость. Под пространством сакрального искусства мы будем подразумевать то, что началось с органумов школы Нотр–Дам, что Достигло кульминации в мессах и мотетах Дюфаи, Окегема и Обрехта и что угасло вместе со смертью Палестрины, Лассо и Де–Монте, — Другими словами, понятием пространство сакрального искусства мы будем обозначать исключительно то, что относится к области музыки res facta, основанной на принципе varietas–композиции, и ничего более. Только в музыке res facta происходит реальное соединение, и даже не соединение, но реальный синтез сакрального пространства и пространства искусства, и именно природа этого синтетического пространства сакрального искусства является причиной того, что произведение и автор обретают ту проблематичность и ту двойственность, о которых мы писали выше. Однако для того чтобы продвинуться дальше в понимании этой двойственности, нам нужно более пристально всмотреться в проблему произведения и автора в opus–музыке. И хотя на первый взгляд может показаться, что нам очень хорошо известно, что такое произведение и что такое автор, но те недоразумения и недоумение, которые вызывают выдвинутые еще в 1960–е годы идеи смерти произведения и смерти автора, показывают, что здесь остается еще много неясного. Разъяснению этого вопроса, т. е. более подробному рассмотрению проблем произведения и автора в их связи с природой opus–музыки и будет посвящена следующая глава.
От музыки res facta к opus–музыке
Переход от музыки res facta к opus–музыке знаменует собой фундаментальный эпистемологический переворот, связанный с тем, что подобие перестает играть основополагающую и формообразующую роль во взаимоотношениях человека с миром. «В начале XVII века, — пишет Фуко, — в тот период, который ошибочно или справедливо называют «барокко», мысль перестает двигаться в стихии сходства. Отныне подобие — не форма знания, а скорее, повод совершить ошибку. Опасность, угрожающая тогда, когда плохо освещенное пространство смешений вещей не исследуется»[18]. Эта внезапно обнаруженная несостоятельность подобия должна была стать преодоленной и восполненной на основе некоего нового фундаментального метода, который и заявил о себе в самом начале Нового времени. «Подобное, долгое время бывшее фундаментальной категорией знания — одновременно и формой и содержанием познания, — распадается в ходе анализа, осуществляемого в понятиях тождества и различия… Прежде всего анализ замещает аналогизирующую иерархию. В XVI веке предполагалась всеохватывающая система соответствий (земля и небо, планеты и лицо, микрокосм и макрокосм), и каждое отдельное подобие укладывалось внутри этого общего отношения. Отныне же любое сходство подчиняется испытанию сравнением, то есть оно принимается лишь в том случае, если измерение нашло общую единицу, или, более радикально, — на основе порядка тождества и серии различий»