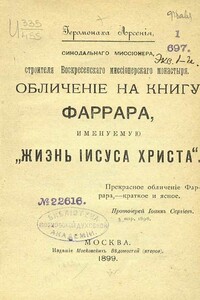Зона opus posth, или Рождение новой реальности | страница 36
Начиная с середины 60–х годов XX века разговоры о смерти принципа авторства стали практически общим местом. Однако во этих разговорах внимание концентрировалось именно на самом факт смерти, в результате чего за скобками оставались невыясненные вопросы: а кто, собственно, умер и когда этот только что умерший повился на свет? Если говорить о музыке, то проблема автора — это сугубо нововременная проблема и проблема opus–музыки. В рамках эпохи музыки res facta проблема автора и авторства вообще становится довольно расплывчатой и двусмысленной. В самом деле, можно ли считать автором человека, считывающего и комментирующее о божественный или космический язык? Можно ли считать творцом человека, воспроизводящего некие заданные модели и выстраивающего на основании их последовательности подобий? И вообще, уместно ли говорить об авторстве, если акт музицирования понимается как процесс воспроизведения и уподобления?
Понятно, что при такой постановке вопроса проблема авторства если и не снимается совсем, то, во всяком случае, растворяется в перспективе многочисленных ссылок, каждая из которых, ссылаясь на предыдущую ей ссылку, в конце концов отсылает к некоему первичному Автору, находящемуся вне сферы человеческих усилий человеческой деятельности вообще. Каждый акт музицирования условиях музыки res facta представляет собой воспроизведение некоей заданной модели, причем результат этого воспроизведения может послужить исходной моделью для последующих воспроизведений. Эта нескончаемая последовательность актов воспроизведения и образует перспективу ссылок, отсылающих к первоначальному Автору и размывающих четкую нововременную концепцию втора. Собственно говоря, автора и не может быть там, где главенствует принцип воспроизведения и уподобления. По–настоящему речь об авторе может идти только там, где главенствующим принципом становится принцип выражения.
Приблизиться к пониманию различия между принципом выражения и принципом воспроизведения, а также различия между авторством в opus–музыке и устранением от авторства в музыке resacta могут помочь слова, сказанные Лютером по поводу музыки Коскена де Пре: «Жоскен властвует над звуками, а над другими композиторами властвуют звуки»[16]. В устах Лютера эти слова звучат как похвала Жоскену, и это вполне естественно, ибо Лютер, будучи предтечей Нового времени, просто не мог не приветствовать всего того, в чем можно было бы усмотреть признаки наступления этого самого Нового времени. Однако сейчас нас будет интересовать не личное отношение Лютера к музыке Жоскена, но заключенная в этих словах формулировка различия между принципов выражения и принципом воспроизведения. Властвовать над звуками значит располагать звуки в соответствии с собственным произволением, а располагать звуки в соответствии с собственным про. изволением значит выражать при помощи музыкальных звуков свои переживания, свой внутренний мир, и, стало быть, господство над звуками есть следствие действия принципа выражения, который осуществляет себя через посредство автора, господствующего над звуками. Подчиниться господству звуков значит следовать за звуками, а следовать за звуками значит заниматься воспроизведением того, что несут в себе эти звуки, и, стало быть, подчинение господству звуков есть следствие действия принципа воспроизведения и уподобления, который осуществляет себя через посредство некоего прозрачного медиатора, толкователя или комментатора, подчиняющегося господству звуков. В отличие от господствующего над звуками автора, человека, подчиняющегося господству звуков, мы будем называть посредником. Автор вторгается в пространство звуков и, используя их как материал, сооружает звуковые конструкции, выражающие его собственные переживания. Посредник, напротив, предоставляет для звуков пространство в себе самом и, превратившись в материал для очередного витка varietas, тем самым вписывается в гармоническое звучание божественного мироздания. Таким образом, господство над звуками и подчинение господству звуков следует рассматривать как две различные стратегии взаимоотношения человека с музыкой, а именно как стратегию выражения, характеризующую эпоху opus–музыки, и стратегию воспроизведения и уподобления, характеризующую эпоху музыки res facta.