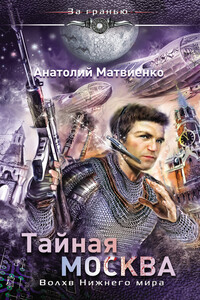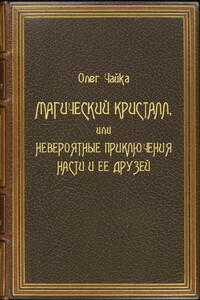Эпоха героев и перегретого пара | страница 37
Строганову, пребывавшему в ножных железах и спавшему отнюдь не на перинах, о личной жизни задуматься не пришлось, пока Император Всероссийский не повелел доставить узника в кабинет, на коридоре близ которого никак не исчезало горелое пятно самосожжения.
— Присаживайся, родственничек… Хотя что это я, ты, верно, насиделся уже.
— Десять дней — не срок, Ваше Императорское Величество.
— Тут ты прав. И срок тебе придётся отмерить.
Александр Павлович опустился-таки на стул. На каторге хоть будет о чём рассказать — как позволили ему сидеть в монаршем присутствии.
— Итак. Против тебя — исполненные смертные приговоры, составленные Расправным Благочинием в количестве ста тридцати семи штук, десятки тысяч загубленных душ в Клязьменском побоище, полторы тысячи под Муромом, где ты войсками лично изволил командовать. Сселение евреев на юг, потом в Сибирь, они на полста тысяч погибших жалуются…
— Евреи завсегда свои горести преувеличивают.
— Не перебивай царя, Александр. Пусть не пятьдесят, даже одна тысяча. Добавим кавказцев. Итого православных, иудейских да магометанских душ под сотню тысяч набирается. Поэтов великих уничтожил, Нестора Кукольника и Фёдора Тютчева. На единственную петлю хватит? Али пару тысяч не досгубил?
— Всё оно так. А будь в моём кресле Бенкендорф, Пестелем науськиваемый и никем не сдерживаемый, ты бы не десятки — сотни тыщ считал. А то и мильён!
Государь иронически скривился.
— Да видел я твои показанья. Будто лазутчиком себя счёл, во вражий лагерь засланным. Вроде как продолжал работу расправную, а вроде и тормозил. Но ложь это! — Демидов швырнул на столешницу маленький декоративный ножик. Ныне он ничуть не напоминал вальяжного барина, путешествующего из Варшавы иль просящего купеческих вольностей. — Никто тебя к фюреру не послал, стало быть — ответ тебе держать.
Император прошёлся к окну, глянул поверх кремлёвских зубцов, обернулся.
— В твою пользу, Саша, казнь Пестеля. Облегчил мой труд, ибо зарёкся я казнить. Указ о том издам, наверное. Посему умерщвлять отныне могу лишь тайно, внешне к душегубству отношения не имея. Но Пестель что — дрянь человечишко. Сгноили бы его в остроге; та же казнь.
— Выходит, меня там сгноишь? — Строганов неловко повернулся, железки звякнули на ногах музыкой тюремных подземелий.
— Нет, — через паузу заявил Павел Второй. — Тысячи погибших — огромный грех, не искупить его. Однако услуга мне с Пестелем не главная. Ты Пушкина спас, от Бенкендорфа прикрыл. Может, Александр Сергеич всего нашего поколения стоит. И за это тебе спасибо.