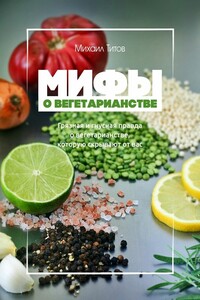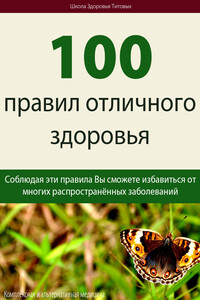Партизанское движение в Приморьи, 1918-1922 гг. | страница 7
Слева: Ив. Солоненко. Справа: Ив. Петр. Салусенко. Организаторы первых нелегальных боевых дружин во Фроловке и Казанке. Активные участники обеих кампании партизанства в Приморьи.
Дальнейший ход событий не дал возможности комитету целиком осуществить организационный план. Комитет не успел широко развернуть свою подготовительную работу, а главное — еще не было достаточно распространено его организационное влияние среди шахтеров и железнодорожников, когда обстановка потребовала немедленных и решительных действий. 18 ноября адмирал Колчак «сверг» эсеро-кадетское «Временное сибирское правительство» и объявил себя диктатором. 8 или 9 декабря им был отдан приказ о мобилизации сначала офицеров и унтер-офицеров, а затем и солдат. Одновременно он предложил местному командованию своих войск приступить к разоружению населения. Начальникам гарнизонов рекомендовалось в приказах приступить к срочной организации «карательных экспедиций» для обеспечения своевременного выполнения воли правителя. В деревнях этот строгий приказ был получен на второй день после его издания. В это же время созданный названным выше «демократическим» Временным сибирским правительством «противобольшевистский» уральский фронт, поддерживаемый западно-сибирским кулачеством, приносил контр-революции все более и более утешительные сведения: Красная гвардия отступала и терпела поражения одно за другим. Патриотические газеты были полны торжествующими статьями и, захлебываясь в предвкушении радости, которая должна была наступить с завоеванием Москвы, предвещали скорую и окончательную победу своему «доблестному войску». Меньшевики и эсеры, первоначально возглавлявшие контр-революцию и запутавшиеся теперь, после «устранения» их от власти, косноязычно пророчествовали о том, что скоро-де наступит конец гражданской войны, т. е. будет раздавлена революция, и восторжествует великое «демократическое начало». Словом, каждый по-своему, в зависимости от того, какой социальный слой он представлял, делал свой вывод из того труднейшего положения, в котором очутилась к этому времени молодая советская страна. Ясно, что эта обстановка не могла не отразиться на характере и темпе подготовительной работы «Комитета по организации революционного сопротивления». Стало совершенно очевидным, что нельзя настаивать на выполнении первоначальных предположений относительно распространения организации на весь Сучанский район. В процессе работы комитет убедился в том, что вовсе нет никакой нужды при существующих условиях затевать столь громоздкую нелегальную организацию, так как готовить к восстанию путем убеждения никого не нужно было: все крестьяне, во всяком случае все наиболее революционные села, выражали полную готовность начать борьбу; надеяться же на то, что проведением организационного плана удастся сколько-нибудь основательно укрепить, спаять свою военную силу, было бы непозволительным легкомыслием, могущим помочь только белогвардейщине. Каждый день, каждый час был дорог. Нужно было немедленно начать выступление, чтобы отвлечь на себя возможно больше сил врага с уральского фронта. Никто из нас не рассчитывал, что восстание должно привести непосредственно к захвату власти; напротив, все готовились к длительной и упорной войне. Эта война не могла также носить фронтового характера, на что впоследствии тщетно вызывали нас белогвардейские генералы: она должна была носить характер партизанских набегов, т. е. быть в тех условиях наиболее чувствительной и вредной для неприятеля и наиболее доступной для нас. Близившийся решительный час ставил целый ряд принципиальных и практических вопросов (стратегия, снабжение, вовлечение других уездов в предстоящую борьбу и проч.). Для разрешения всех этих вопросов было решено созвать на 21 декабря съезд руководителей наиболее сильных и влиятельных дружин. Съезд был тем более необходим, что «Комитет по организации революционного сопротивления» на первое время потерял всякую надежду наладить связь с Владивостокской организацией большевиков и вся тяжесть политического руководства должна была целиком лечь на плечи неопытных, в большей части не вышедших еще из комсомольского возраста членов комитета.