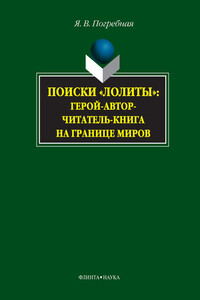Актуальные проблемы современной мифопоэтики | страница 25
В.В. Набокова (Козлова, 2001. С. 782–810) мифопоэтический смысловой уровень образа не рассматривается. Э. Кассиер указывал: «Подлинный характер мифологического бытия открывается тогда, когда оно выступает бытием начал» (Кассиер, 1991. С.97). Собственно сам принцип порождения неомифа и его прочтения, с учетом их разнонаправленности, сфомулирован М.М. Бахтиным следующим образом: «. каждое явление погружено в стихию первоначал бытия» (Бахтин, 1986. С.381). Необходимо, правда, учитывать одно обстоятельство, проакцентированное в теории метафоры Э. Кассиера: подлинный смысл вещи или явления открывается в ее отношении к сакральному, именно так Кассиер интерпретирует «начала», в проекции на которые открывается подлинный смысл бытия и отдельных его элементов. Однако это качество мифологического изоморфизма, определяемое по Кассиеру, факультативно для современного неомифа, который, стремясь новыми средствами восстановить такие определяющие качества мифа как опространствление и цикличность времени, предперсональность героя, тождество вымысла и правды, оставляет отношение к сакральному в области индивидуальных проспекций и ретроспекций мифотворцев XX века.
Категория мифа определяется в современной науке не содержательным образом, а по идентифицирующим миф признакам, основными из которых следует признать: тождество в мифе означаемого и означающего, объекта и субъекта, вымысла и реальности, времени и вечности; предперсональность, текучесть, обратимость героя, стремление свести множественность героев к единичности, видеть в разных существах (принимая во внимание мифологическое оборотничество) трансформацию единого; циклическую концепцию времени, предполагающую его обратимость, устремленность к космогоническому началу и переход в пространственную форму при обращении времени в вечность. Эти обобщающие категории мифа по-разному объясняются с позиций теории партипации Л. Леви-Брюлля, прелогизма первобытного мышления Ф. Боаса, его сакральности и метафоричности с точки зрения Э. Кассиера, теории медиации смыслов мифологических оппозиций К. Леви-Стросса, тотального символизма первобытного мышления Я. Голосовкера. Вместе с тем, обобщающий характер выделенных признаков мифа не подвергается сомнению, а по-разному объясняется и на разном мифологическом материале подтверждается. Все теории мифа исходят из общего тезиса о единстве в мифе трансцендентного и эмпирического миров, обусловленном единством вымысла и правды, поскольку миф сотворял мир (миры) и иных миров (кроме сотворенных мифом и периодически закрепляемых ритуалом) не существовало, за пределами мифа находился первозданный хаос – материал творения и источник поддерживающих его энергий. А. Косарев указывает на единство в мифе трех реальностей: эмпирической, метафизической и трансцендентной (Косарев, 2000. С. 156–159). Не вдаваясь в подробности относительно возможности выделения сознания и мысли как самостоятельных реальностей, мы будем их идентифицировать как ступени продвижения к трансцендентной реальности, равной вечности, поскольку речь будет идти о мифотворящем творческом сознании, всегда продуцирующемся в вечность. Собственно тождество в мифе антиномий разума и противоречий действительности, реальности и вымысла и позволяет поднять вопрос о современном неомифологизме, как интерпретации художником не только и не столько ремифологизации литературного процесса XIX века, сколько возможности сотворения мифа, через актуализацию архетипов коллективного бессознательного или соотнесения архаического мифа с современными героями и событиями их судьбы.