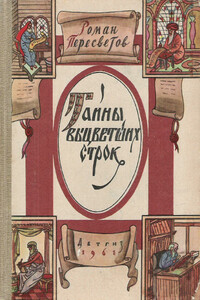Культура русской речи | страница 14
Интерпретация фактов языка, нацеленная на активное владение языком, производится в функционально-речевом аспекте через такие представления языковых средств, которые соответствуют конкретным коммуникативным намерениям, или интенциям: например, возражение, аргументирование, указание, требование или просьба, совет, предостережение, уточнение, дополнение, напоминание и т. д., источник, место, время, факт, деятель, цель, причина, повод, отношение, оценка, результат и т. д. Они являются, как известно, универсальными внеязыковыми категориями, но для их выражения в каждом языке могут наличествовать свои речевые формулы, устойчивые синтаксические построения, закреплённые употреблением. Такой коммуникативно-семантический подход к группировке языковых фактов, являясь дальнейшим развитием принципа функциональности, опирается на значимость данного явления для осуществления акта коммуникации. Коммуникативное же намерение, как определяющее в выборе языковых средств, может выступать единицей организации языкового материала при обучении нормативной грамматике на основе функционально-семантического подхода. При этом разумно отойти от чисто или преимущественно лингвистической основы и перейти на функционально-психологические основы с доминированием речедеятельностных ориентации. Единицы лишь лингвистического анализа – это не то, что нужно в обучении, почему традиционные системные лингвистические описания не смогли существенно облегчить задачу учащихся. Последнее – явно психологический процесс, и роль лингвистики здесь, образно говоря, может быть только совещательной, а не императивной.
Общеизвестно, что «Мир, который нам дан в нашем непосредственном опыте, оставаясь везде одним и тем же, постигается различным образом в различных языках, даже в тех, на которых говорят народы, представляющие собой известное единство с точки зрения культур… Сравнивая детально разные языки, мы разбиваем иллюзию, которой нас приучает знание лишь одного языка, – иллюзию, будто бы существуют незыблемые понятия, которые одинаковы для всех времён и всех народов. В результате получается освобождение мысли из плена слова, из плена языка и придание ей истинной диалектической научности» [16: 69, 316, 317]. Описанное явление может быть прояснено не просто сопоставлением языков, а лишь углублением в самую природу функционирования языка, природу усвоения родного и изучения другого языка.
Несовпадение «картин мира», отражённых в языке, проявляется и в лексике, и в грамматике, и в принципах категоризации. Оно создаёт множество различий в концепции одних и тех же объектов действительности, языки выделяют неоднотипные признаки, пользуются разными «внутренними формами», и семантическое содержание, не говоря уже о материальной форме, даже весьма эквивалентных единиц оказывается несовпадающим. Именно на этом основано чувство избыточности и недостаточности изучаемого языка.