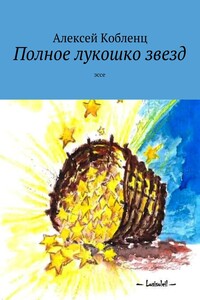Он снова здесь | страница 64
Единственным светлым пятном в демократическом безобразии была чудесная партия, называвшая себя зелеными. Конечно, и там преобладали кретины-пацифисты не от мира сего, но даже нашему движению пришлось в 1934 году выдавить из себя штурмовиков – то было гадкое, но необходимое дело, замаравшее нас отнюдь не славой. У зеленых же меня худо-бедно радовал корень их движения, о существовании которого НСДАП еще не могла подозревать в те годы, но который, по моему убеждению, весьма полезно учитывать. Мощная индустриализация и моторизация после войны нанесли существенный ущерб стране, воздуху, почве, человеку. И эти зеленые посвятили себя защите немецкого родного края, в том числе защите близких моему сердцу баварских гор, где так пострадал немецкий лес. Полной чушью, разумеется, было их отрицание атомной энергии, способной на фантастические вещи, и вдвойне жаль, что из-за каких-то японских неполадок почти все партии решили от нее отказаться, а значит, потерять доступ к расщепляемому и пригодному для вооружения материалу. Впрочем, с военной точки зрения дела республики были совсем запущены.
Эти политические неудачники за несколько десятилетий так разбазарили и извратили лучшую армию на свете, что их надо бы всем скопом поставить к стенке. Да, я сам всегда проповедовал, что не следует окончательно уничтожать Восток, но там всегда должен тлеть конфликт, потому что для обновления крови здоровому народу потребна война каждые двадцать пять лет. Но то, что происходило сейчас в Афганистане, – это был не долгосрочный конфликт, который закаляет войско, а форменная карикатура. Причиной минимального количества жертв было не огромное техническое преимущество, как я вначале подумал, а численность войска – туда послали всего горстку людей. В военном отношении операция вызывала серьезные вопросы, количество солдат рассчитывалось не исходя из поставленной задачи, а в лучших парламентских традициях: лишь бы не вызвать недовольства ни у населения, ни у “союзников”. Как и следовало ожидать, ни одна из этих двух целей не была достигнута. Единственным результатом стало фактически полное отсутствие благородного окончания солдатской жизни – героической смерти. Траурные богослужения совершались там, где были более уместны радостные торжества, а немецкий народ почитал нормальным, что солдат возвращается с фронта, да еще желательно целым и невредимым.
Действительно радовало лишь одно – немецкий еврей ощутимо поредел, это чувствовалось даже шестьдесят лет спустя. Сейчас насчитывалось около ста тысяч, что составляло пятую часть от расчетов на 1933 год. Сожаление по этому поводу держалось в рамках разумного – казалось бы, логично, но я на это не очень-то рассчитывал. Принимая во внимание вопли, вызываемые исчезновением немецкого леса, можно было ожидать потуг к этакому семитскому “лесовозобновлению”. Однако, насколько мне было известно, подобные проекты отсутствовали – не наблюдалось ни новых поселений, ни столь популярного ныне сентиментального стремления к воссозданию прошлого (особенно заметного в области реконструкции зданий – дрезденской Фрауэнкирхе, Оперы Земпера и так далее).