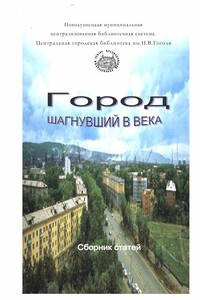История русской литературы. 90-е годы XX века | страница 50
– Куда ты, дурак? Ты – что? Охренел? Под пули? Это котеневцы или бейтары-палачи! Видишь, там еще трое, в кожаных куртках! В кусты пошли, там над кем-то орудуют!
Андрей мычал, сдавливая пальцами рот, крупная дрожь сбивала дыхание, видел: пятнистый выстрелил в левую ногу казачонка, затем, помедля, в правую, наблюдая за судорожными извивами мальчишеского тела, за муками в отчаянии выкрикивающего мольбу погибающего ребенка, перед смертью понявшего все:
– Убейте, убейте, дяденька, проклятый! В голову стрельните! В голову, дурак! Скорей стрельните!..
Но, продлевая мучения израненного мальчика в казачьих лампасах, пятнистый больше не стрелял».
Потом, в заброшенном доме на окраине Москвы, товарищи Андрея по несчастью будут забиты до смерти озверевшими от безнаказанности людьми в милицейской форме. Он уцелел чудом – был не добит, а когда пришел в себя, отпущен из милости каким-то настоящим милиционером, который оказался не чужд живописи и иных духовных запросов и случайно знал картины его деда, известного художника…
Дальнейшее повествование доведено до наших дней, в центре по-прежнему Андрей Демидов с молодежью из своего круга, а также его дед академик живописи Демидов и художники из дедова круга. Русская творческая интеллигенция, ее дела, ее извечные и нынешние споры, ее сила и внутренняя слабость, мудрость и непростительная инфантильность…
Приятель Андрея Виталий Татарников, «работавший в газете радикального направления», отчеканивает на дружеской вечеринке:
«Если бы не было кроличьего страха, вся Москва вышла бы на защиту Белого дома. Танкам не дали бы сделать ни выстрела, подняли бы кантемировское железо на руки и сбросили в Москву-реку. И весь бардак вмиг прекратился бы. Проклятое трусливое мещанство! Путы на ногах народа!»
Но их же сокурсник Жарков, ныне актер из некоего театра, ставящего пьески о лесбиянках, надрываясь, кричит:
«Как же вы против… демократических реформ? Это… варварство, невероятно! Хотите вернуть советскую власть? Политбюро? Партком? Сталинские лагеря? Наелись! Из ушей лезет! У меня дед погиб на Колыме! Я не желаю, не хочу быть пищей для лагерных червей! Я не хочу быть под кагэбэ! Я семьдесят лет был потенциальной пищей…»
«Кому служит твой похабный театр, – обращается к нему Татарников, – где героини садятся на ночные горшки, а герои демонстративно ходят по сцене с расстегнутыми ширинками, изображая русский народ? Молодцы, русофобы!»
В разговор вступает писатель Мишин: