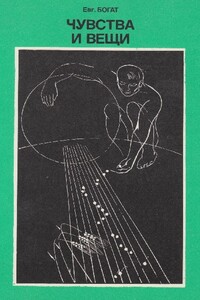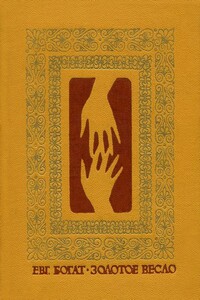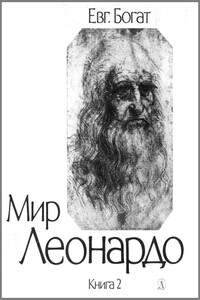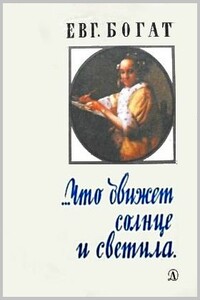Семейная реликвия | страница 9
«И вот, — пишет мне старая читательница из города Мозырь, — я уже было отчаялась, но однажды память моя воскресила одну историю. Я рассказала бездушной врачихе, как в годы войны встречала людей, которых эвакуировали из осажденного Ленинграда, и они поведали мне историю об одной черноглазой девушке Гале. Они рассказали, как она изо дня в день шла по городу, спасая детей от голодной смерти. Вот в морозной полуразрушенной комнате она увидела мальчика, тут же лежала его умершая мать. Галя отдала ему собственный паек, потом помогла эвакуироваться. Ей были обязаны жизнью немало детей. А сама она погибла в осажденном голодном городе.
Я рассказывала эту историю, все больше волнуясь, почти забыв о моей собеседнице, как бы для самой себя. А когда закончила и понемногу успокоилась, вдруг увидела, что у нее, у бездушной врачихи, зареванное лицо. Я быстро ушла и больше ее не видела — долго, может быть, месяц. Потом на улице она подошла ко мне и заговорила: после вашего рассказа я долго не могла уснуть, и сейчас душа не на месте. И я вдруг поняла, что теперь она, наверное, будет не совсем такой, как раньше, а может быть, даже и совсем не такой.
Самое опасное, когда человек утрачивает нравственный ориентир в жизни. Именно тогда и наступает деградация личности. А возвращается ориентир — возрождается личность».
История наивная, повторяю, даже малоправдоподобная. Если бы молодой писатель изобрел ее сюжетом рассказа, его литературный опыт был бы отвергнут всеми редакторами ввиду недостоверности и сентиментальности. Но иногда наивными и малоправдоподобными историями (как устами детей и мудрецов) говорит сама истина. А истина в том, что у человека должна быть вторая совесть.
Для того, чтобы первая совесть, то есть твоя, только твоя, была на страже мыслей и действий, должна быть и вторая, та, что не в тебе, а вне тебя, выше тебя, поверх тебя, как нравственный образец, как нравственный суд. И этой второй совестью может быть лишь живая подлинная личность — не отвлеченная сияющая вершина.
Для Кюхельбекера второй совестью была Мария Волконская, для шестидесятников девятнадцатого века — Чернышевский, для Маяковского — Ленин. Для молодого бездушного врача из города Мозырь стала ею военная девушка Галя.
Можно, конечно, жить и без второй совести, как и без первой. Думаю, что, если сегодня раздать в медицинских тех же училищах анкету с вопросом: «Ваша вторая совесть?» — большинство, не поняв, ничего не ответит…