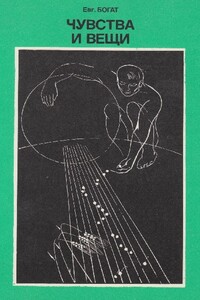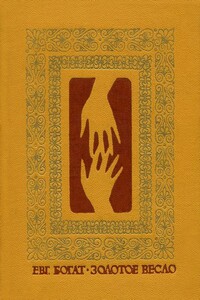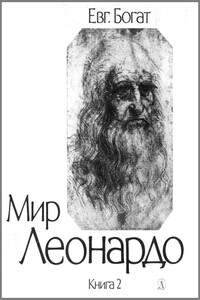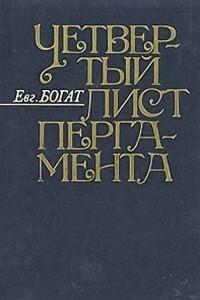Семейная реликвия | страница 43
Об этом я говорил в московском Центральном Доме литераторов несколько лет назад, когда отмечалось восьмидесятилетие со дня рождения Медынского. Я рассказал маленькую занятную историю, ставшую мне известной незадолго перед юбилеем.
Однажды, после отбытия наказания, была освобождена партия заключенных. Дело было во время школьных каникул, когда вся страна находится в разъездах, чтобы показать детям как можно больше нового и интересного. Именно поэтому вчерашним заключенным нелегко было достать билеты, и они в течение долгих часов томились на вокзале города. Тогда самый решительный позвонил в орган местной власти по телефону и сообщил, что, если его товарищей немедленно не устроят на ближайшие поезда, они напишут жалобу писателю Медынскому. На вокзал немедленно выехал один из руководителей города и тут же все уладил на месте с единственным условием: не пишите Медынскому[2].
…Не могу не рассказать сейчас о моем учителе в журналистике, чудесном литераторе Ин. Андрееве, авторе талантливых книг «Синий час» и «Зеленая ветка». Он умер несколько лет назад на улице от разрыва сердца. Он упал, как падают в битве, жизнь его и была битвой за человека. Когда я выразил опасение, не чересчур ли часто и усиленно отвлекается он от чисто литературной работы для непосредственной помощи людям, он ответил словами, запомнившимися надолго: «Спасенная жизнь стоит хорошо написанной книги».
Однажды — он работал тогда в железнодорожной газете — Андреев получил долгожданную командировку на юг, в овеянный романтикой город. В поезде он случайно узнал, что на маленькой станции, которую они через час минуют не останавливаясь, у стрелочника Киселева большое несчастье. Когда он дежурил, загорелся его дом — в полуверсте. Человек видел: горит, но не побежал, остался верен долгу — шли поезда. Жена его тоже в тот час была на работе. И вот уже несколько месяцев они бедствуют без крова. Андреев сошел на этой станции (убедил начальника поезда, и тот распорядился затормозить состав), нашел Киселева, выяснил обстоятельства дела и передал по селектору двадцать строк в газету. Стрелочнику объявили благодарность и выдали солидную сумму на постройку дома. Его послали учиться, и он стал потом начальником станции.
Андреев не написал вещи, ради которой поехал на юг. Он вернулся в Москву и боролся за действенность тех считанных двадцати строк.
Это — тоже «частная жизнь» писателя.
Моя писательская судьба в одном отношении сложилась счастливо: я получил за последние годы тысячи писем. Это — письма-судьбы, письма-раздумья. Читая их, опять понимаешь и меру доверия читателя к писателю в нашей жизни, и меру собственной ответственности перед читателем, и безмерность вины перед ним за то, что по лени, малодушию, занятости собой часто не оправдываешь его надежд.