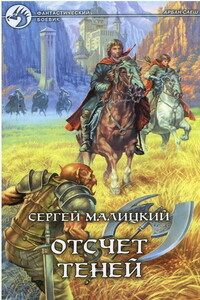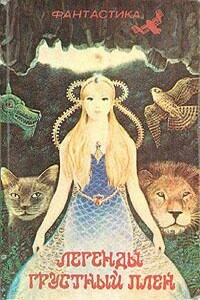Легко | страница 41
Я открываю дверь, опускаюсь вниз, сталкиваюсь в вестибюле с твоим мужем. Он просит у меня закурить и медленно идет наверх. Он в костюме и почему-то в домашних тапочках. Дай бог, чтобы у него и у тебя все наладилось.
Я выхожу на улицу. Ловлю лицом теплый осенний ветер. Прохожу через двор, шурша осенними листьями. У школьных ворот стоят потрепанные «Жигули», а в них на заднем сидении снова ты. Та, из аудитории, с расстегнутым платьем и срывающимся голосом. У тебя, как и у всех женщин этой осенью и в этом городе, заплаканное лицо. Вот такую тебя я мог бы полюбить снова. Ты хлопаешь ладошками по кнопкам, в панике закрывая все двери изнутри. Слезы снова выкатываются из твоих глаз. Не плачь. Я сплющиваю нос о боковое стекло и делаю грустное лицо. Ты прижимаешься с противоположной стороны.
— Ну? Что ты? Почему у тебя такие испуганные глаза? Не бойся. Я не кусаюсь.
28.09.1999
Кенгуру
Не люблю пить с незнакомыми. Особенно в поезде. На откровенность тянет. Наговоришь, бог знает чего, половину придумаешь или, наоборот, резанешь спьяну правду, выйдешь на перрон и забудешь и имя, и лицо собеседника. Подумаешь про себя, ну и дурак ты, братец, и прямым курсом в привокзальный буфет, чтобы быстрее забыть купейную слабость.
Не люблю пить с незнакомыми. Жуликов не боюсь. Чего с меня брать? А даст бог богатства, так чего тогда в поезде делать? Откровенных боюсь. Наговорят, бог знает чего, половину придумают или, наоборот, нарежут ненужной правды, и не знаешь, то ли спрыгивать от этой правды на первой же остановке, то ли к прокурору бежать. Лицо что ли у меня внимательное, так всех и тянет на откровенность?
Один раз даже чуть дело плохо не закончилось. Здорово наклюкался мой собеседник, агроном какой-то из разоренного совхоза. Мы даже спели с ним песню про курганы. Наклюкался и шепчет мне так тихо. Я ему, чего ты шепчешь? А он мне пальцем машет и шипит только. Не могу, говорит, больше в себе держать, сказать надо, а то помру. Ну, что ж, говорю, сказывай, только не помирай. Вот он мне и выкладывает. Отца своего, говорит, я убил. И я, дурак, разговор этот спьяну поддерживаю. Как же ты, спрашиваю? Сколько дали? А он еще сильнее шипит, тихо, говорит! Не сидел я, говорит! Он мою семью пятнадцать лет истязал, мать бил, кости ломал, меня бил, брата бил, вещи продавал! Мать вся высохла, плакать уж разучилась, умом почти тронулась! Когда ж помрешь ты, Иуда, молилась на него! А он еще и баб спьяну приводить стал! Не выдержал я этой жизни, и, когда он мамку в очередной раз избил так, что у нее кровь горлом пошла, и пошел к колодцу воды с устатку выпить, я его и подтолкнул туда. В колодце он и утоп. Так на водку и списали. Мать хоть вздохнула. Недолго уж потом прожила, но догадалась, наверное, не простила мне этого, так до самой смерти и не разговаривала со мной. Молчала. А я молчать не могу больше!