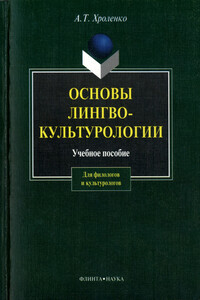Язык фольклора | страница 75
Помимо нескольких стереотипных зачинов, слагатель новой былины имеет перед собою целую массу старых эпических материалов, годных для новой постройки. Я говорю о давно установившихся описаниях, представляющих ряд передвижных картинок, которые могут быть расходуемы по мере надобности при каждом подходящем случае [42].
…Слагатели имели в своём распоряжении наследованные исстари типические стихотворные места. Такой фонд поэтических формул, выкованных долгим употреблением, существовал уже у слагателей (певцов) самых древних, достижимых нашему анализу, песен, и они усвояли его памятью при тщательном изучении наизусть [47].
Кроме отдельных эпических картинок или поэтических формул, бывших в распоряжении наших слагателей, они располагали и запасом красок, которыми окрашивали отдельные предметы, входившие в описание и рассказ. Я разумею готовый фонд постоянных, искони утвердившихся эпитетов. Собственно говоря, постоянные эпитеты составляют принадлежность вообще языка народных произведений и не относятся специально к языку былин [47–48].
П.В. Шейн
Великорусе в своих песнях, обрядах, обычаях, верованиях, сказках, легендах и т. п. Т. 1, вып. первый. СПб., 1898
Мне казалось, что чисто народная песня, хотя и не древнего склада, непременно знакомит нас, и очень близко, со многими сторонами быта русского человека, с его верованиями и т. п., и во всяком случае с неисчерпаемым богатством его языка, которым он так творчески умеет пользоваться [V].
С этой стороны, мне сдавалось, собиратель не должен пренебрегать песней, даже не занимательной по содержанию. Он должен непременно внести в своё собрание, если только она отличается некоторыми замечательными особенностями по языку [V].
Местный говор сохранен почти везде. Я говорю почти везде, потому что некоторые из лиц, обязательно доставивших мне песни своей родной местности, не обратили достаточное внимание на это главное требование науки [VI].
М. Сперанский
Русская устная словесность. М., 1917
…Что касается языка устно-народных произведений (морфологии, отчасти фонетики), то как в виде творчества традиционном, скованном определенной формой речи, он, естественно, будет в общем отличаться от языка обыденной речи носителей этих произведений: если язык этих произведений воспринимает диалектические особенности местности, где поётся или сказывается то или иное произведение, то рядом с этим в них мы найдём (особенно в стихотворных произведениях) ряд особенностей сравнительно с живой речью: это будут отчасти архаизмы языка, иногда восходящие ко времени создания произведения, иногда изменения, обусловленные потребностями формы произведения. Нагляднее это можно представить себе, взявши самый развитой вид творчества – былины – и присмотревшись к языку их сравнительно с нашей литературной речью… [150].