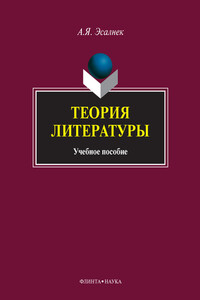Основы литературоведения. Анализ романного текста | страница 7
а) в трактовке романа как содержательной формы такого типа, которая содержит определенные типологические качества;
б) в понимании того, что источником содержательности романа как жанра и основой его типологических качеств является сопричастность этого жанра идее личности и наличие в нем оппозиции: личность – общество.
Как уже отмечено, начало такому толкованию романа было положено Гегелем, в силу чего обозначенная традиция получила название «гегелевской». Объективными приверженцами этой традиции стали ученые, писавшие о романе эпохи Возрождения (см. выше). Ее продолжателями можно считать многих исследователей 60—80-х годов XX века.
С появлением теоретических работ М.М. Бахтина, посвященных роману, первая из которых («Эпос и роман») была опубликована в 1970, а следующие – в 1975-м и 1979 годах[20], сложилось впечатление, что родилась принципиально новая традиция в трактовке романа.
Как известно, исходной у Бахтина была идея о диалогичности любого высказывания, в том числе художественного произведения. При изучении жанров эта мысль трансформировалась в тезис о наличии двух линий в развитии европейского романа, обозначившихся еще в античности и представленных, с одной стороны, софистическим, одноязычным, с другой – двуголосым, двуязычным романом. Эти типы романа, пройдя немалый путь развития, преобразовались монологический и полифонический виды. При этом полифонический роман, достигший вершин в творчестве Ф. Достоевского, является, по мнению ученого, наиболее продуктивным и перспективным, а монологический уступает ему в своей значимости, хотя в числе его авторов числятся Толстой и Тургенев.
Своеобразие и превосходство полифонического романа, согласно мнению Бахтина, определяются тем, что нем обнаруживается способность художественно изобразить чужое сознание как чужое, самостоятельное, возможность показать героя как свободного, независимого от чужой воли и недоступного «завершению» со стороны автора. Поэтому именно в полифоническом романе герой предстает как «незавершенный», «неготовый», т. е. до конца не познавший себя и не стремящийся к познанию и обретению той жизненной позиции, которая может быть признана неоспоримой, авторитетной и в то же время не догматичной. Всякое обретенное героем «внутренне убедительное слово» не является окончательным: «последнее слово о мире еще не сказано». Очевидно, авторитетность большей частью отождествлялась Бахтиным с авторитарностью, неоспоримость – с догматизмом, а завершенность – с подавлением личностного начала. Эта мысль, вероятно, поддерживалась в сознании ученого советской литературой 30-х годов XX века, где культивировался «готовый» герой, а это выражалось в «наполненности жизни личности социальным смыслом – в приобщенности ее к созданию нового справедливого общества», что требовало от героя «социально важных и значимых качеств – героизма, самоотверженности, самопожертвования, самоотдачи»