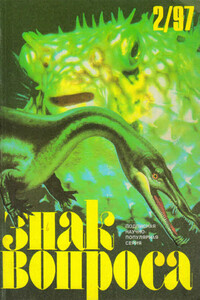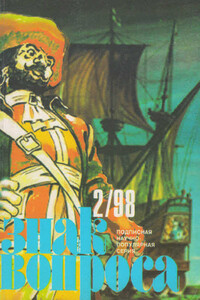Синтаксис любви | страница 35
И когда Гоголь, помянув нецензурное прозвище одного из героев “Мертвых душ” и сравнив в этой связи русский язык с другими европейскими языками, писал, что “нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и животрепетало, как метко сказанное русское слово”, то нисколько не льстил русскому народу, а только констатировал преобладание в его среде 2-й Эмоции.
Возвращаясь к проблеме отношения Эмоции к метафоре, необходимо отметить как особую примету то, что 2-я Эмоция ее не очень любит. Толстой прямо говорил о своей антипатии к метафоре. И это понятно. В силу своей неадекватности (всякое сравнение хромает) метафора и не может быть в почете у “актера”. Не испытывает он особой потребности в ней даже тогда, когда состоит в поэтическом цехе, хотя, как говорят, метафора — хлеб поэзии. Поэтому из-под пера 2-й Эмоции выходят подчас стихи того особого рода, что называются “анатропными” (букв. “без приемов”). Образцы такой поэзии можно найти у Лермонтова, Есенина, Ахматовой.
То же — в прозе. “Актер” стремится к максимально точной передаче чувств и готов скорее к недосказанности выражения, чем к гиперболизации. Чтобы читатель наглядно представил себе способ эталонного прозаического выражения чувств у 2-й Эмоции, приведу отрывок из трилогии “Детство. Отрочество. Юность.” Льва Толстого: “Какое-то новое для меня, чрезвычайно сильное и приятное чувство вдруг проникло мне в душу…Хлопотливое чириканье птичек, копошившихся в этом кусте, мокрый от таявшего на нем снега черноватый забор, а главное — этот пахучий сырой воздух и радостное солнце говорили мне внятно, ясно о чем-то новом и прекрасном, которое, хотя я не могу передать так, как оно сказывалось мне, я постараюсь передать так, как я воспринимал его, — все мне говорило про красоту, счастье и добродетель, говорило, что как то, так и другое легко и возможно для меня, что одно не может быть без другого, и даже что красота, счастье и добродетель — одно и то же.” Вот так, быть может, слишком многословно, не слишком понятно, с извинениями и отступлениями, но максимально точно старается передать свои переживания 2-я Эмоция.
Вообще литературную деятельность 2-й Эмоции, сильной и процессионной, я называю для себя “акынической”. Происходит этот доморощенный неологизм от “акын” — киргизо-казахского звания народных певцов. Канонический образ акына — это человек, едущий по степи на своем шершавом коньке с домброй в руках и от восхода солнца до заката поющий все, что видит. Таким акыном, поющим все, что попало в поле зрения, и мнится мне занятый в литературе “актер”.