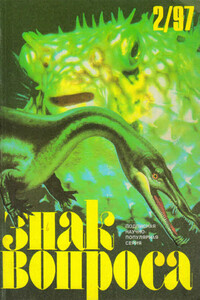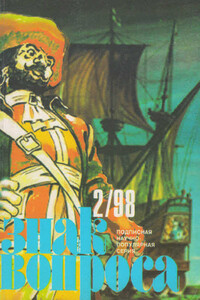Синтаксис любви | страница 101
Уже вошло в быт и стало общеупотребительным деление по Юнгу на интравертов и экстравертов, и при этом повсеместно данное деление принято понимать так, что экстраверт — это обращенный во вне, очень контактный человек, тогда как интраверт — человек, необщительный, обращенный во внутрь. Но это — “кухонный” Юнг. На самом деле, экстраверт не человек, обращенный во вне,а человек ЗАВИСИМЫЙ извне, а интраверт — наоборот. Вот несколько характерных цитат из типологии Юнга:”.. бессознательные притязания экстравертного типа имеют, собственно говоря, примитивный и инфантильный, эгоцентрическийхарактер…Экстравертный тип всегда готов отдать себя (по-видимому) в пользу объекта и ассимилировать свою субьективность — объекту…Опасность для экстраверта заключается в том, что он вовлекается в объекты и совершенно теряет в них себя самого…Психическая жизнь данного личностного типа разыгрывается, так сказать, за пределами его самого, в окружающей среде. Он живет в других и через других — любые размышления о себе приводят его в содрогание. Прячущиеся там опасности лучше всего преодолеваются шумом. Если у него и имеется “комплекс”, он находит прибежище в социальном кружении, суматохе и позволяет по несколько раз на дню быть уверяемым, что все в порядке. В том случае, если он не слишком вмешивается в чужие дела, не слишком напорист и не слишком поверхностен, он может быть ярковыраженным полезным членом любой общины.”
Проблема экстравертности и интравертности не в мере общительности, контактности, а в мере ЗАВИСИМОСТИ или НЕЗАВИСИМОСТИ индивидуума, т. е.она — проблема ВОЛИ.И фактически деля человечество на экстравертов и интравертов, Юнг поделил его на людей с высокостоящей Волей и Волей, стоящей низко, а уже только потом выделил из экстравертов и интравертов людей мыслительного типа, сенсорного, эмоционального и интуитивного, т. е. развил свою типологию, выводя типы из волевой базы человека. Однако, не принадлежа к людям волевым, сам Юнг постарался максимально закамуфлировать личную проблему и, создавая свою типологию, спрятал проблему воли за расплывчатой терминологией и, как уже цитировалось, даже официально вывел волю за пределы своей типологии. Произошло то, что и обычно происходит в психологии, когда психолог высоконаучно решает не чужие, а своипсихологические проблемы, выдавая такие решения за универсальные.
Хотя бесспорным извинением Юнга может послужить то, что Воля — наиболее скрытный элемент человеческой психики, и нет в мире ничего, на что можно было бы указать как на очевидный плод Воли, тогда как следов Эмоции, Логики, Физики сколько угодно. Но нет в жизнедеятельности человека ничего, что бы не наполнялось Волей, не отражало бы место Воли в порядке функций индивидуума. Но все это только тайно, подспудно. Воля — скрытый от глаз психический компонент, поэтому только те, кто ощущает в себе избыточность волевого начала, т. е.обладатели 1-й Воли способны более или менее явственно различать в себе глуховатый, глубинный бас Воли за хором пронзительных дискантов других функций. Один из таких людей, Лермонтов, писал:” Воля заключает в себе всю душу, хотеть — значит, ненавидеть, любить, сожалеть, радоваться, — жить, одним словом. Воля есть нравственная сила каждого существа, свободное стремление к созданию или разрушению чего-нибудь, отпечаток Божества, творческая власть, которая из ничего созидает чудеса.”