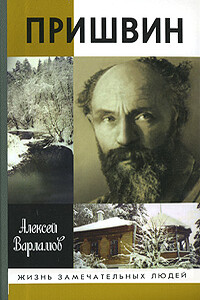Мысленный волк | страница 90
— Ну?
— На убийство Столыпина. В отличие от вас я никогда не любил этого деятеля, он был очень неразборчив в знакомствах, велеречив, порывист, да и всем его красным фразам грош цена, ибо в России нельзя ничего делать решительно и быстро — лишь мягкое, ленивое, тихое, незлобивое и неторопливое правление способно принести на нашей великой равнине достойные плоды. Однако сегодня я вынужден признать, что с его уходом все пошло только хуже. У вешателя был какой-никакой, а инстинкт самосохранения. Он уберегал власть от народа. А народ от интеллигенции. У нынешних этого понимания нет и в помине. Ни у царя, ни у министров, ни у генералов, ни тем более у думцев. Столыпин был последний защитник трона. Впрочем, нет, вру. Предпоследний. Последний нынче валяется в Тюмени на больничной койке, вокруг которой собрались медицинские светила и колдуют над мужицким брюхом, а особливо над его корешком как над высшей драгоценностью империи. Она таковая и есть. Барина в Киеве спасти не доспели, а мужика в Тюмени, того гляди, вытащат нам всем на беду.
— Почему на беду?
— Видит Бог, — и Легкобытов впервые за много лет перекрестился, — видит Бог, лучше было б вашему сибирскому вожатому умереть бесповоротно этой ночью и не беременить больше землю, которую его товарищ хотел переделить.
— Эти двое были злейшими врагами.
— А у нас на Руси своя своих не познаша — традиция! — резко взмахнул руками, как двумя крылами, писатель. — Обниматься на небе станем, кто туда залезет и не сорвется. Почерк, почерк убийц — вот что важно! Богров-то ведь тоже вроде этой Фионии был. Лично оскорбленный одиночка, которого по-быстрому казнили, и никого больше не нашли. Но неужели вы всерьез думаете, что никто за ним не стоит? Я не удивлюсь, если и сифилитичку тишком допросят и по-скорому отправят на виселицу либо упрячут в дом скорби. Но все это звенья одной цепи. Столыпин — Фердинанд — ваш сибирский приятель. Тут поле расчищают для невиданной тризны, куда и меня, и вас позовут, не спрашивая.
— Вы не там ищете, — сказал Василий Христофорович угрюмо и снова взялся за веялку.
— Это еще почему?
— Потому что умножаете число сущностей сверх необходимого.
— А-а, бритва Оккама? — хищно рванулся Павел Матвеевич. — Никогда не доверяйте этим мракобесам. Ни средневековым, ни нынешним.
— Кому?
— Монахам! Кому еще! — Он вскочил как пружина и принялся широкими легкими шагами мерить двор. — Это вы не там ищете! Здесь серьезный заговор. И не масонский, как иные брадатые головы считают, и навзрыд звенят, и по совиным слободкам ухают и рыдают. Все гораздо хуже. Неужели вы, механик человеческих душ, так и не поняли до сих пор, что настоящее управляется будущим? Или точнее — из будущего. И что и эти ваши кровавые ребятишки, и газетчики, и полицейские — все они получают приказы прямиком оттуда. Кто-то прогрызает, как мышь, перегородки между временами и не просто наблюдает за нами — это бы еще полбеды, — но диктует нам свою волю. Кто-то там хочет, чтобы мы прожили свои жизни так, чтобы это было удобно им, а не нам. Дети эгоистичны по отношению к своим родителям, внуки — к бабкам и дедам, но уже вдвое больше, и чем дальше, тем сильнее эгоизм становится. Мы еще не научились и уже не научимся так паразитировать на собственном прошлом, как научились они. Наши далекие предки были людоедами ради того, чтоб сегодня ваш граф-спортсмен Толстой мог сделаться ко всем своим радостям еще и вегетарианцем. Ну хорошо, не ваш, не ваш! Ваш — Федоров, он это почувствовал и восстал, но можно ли придумать более смешную утопию, чем воскрешение мертвых людоедов? Кому они сдались? Что будут тут делать? Похоронили их и забыли. Да они нас сожрут, эти ваши грядущие поколения, ради которых вы сегодня и себя, и своих ближних замучили. Наши дети — вот кто несет нам угрозу. Или скажете, что этого тоже не чувствуете? Уля-то ваша!