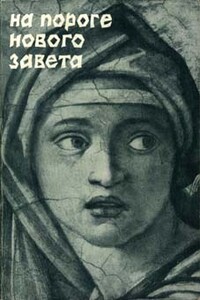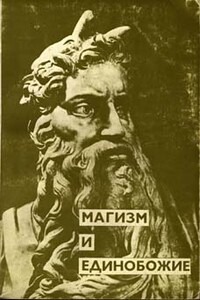Том 4. Дионис, Логос, Судьба | страница 38
17. Orphycorum Fragmenta, 208.
18. Нymn., IV, 30; XII, 10. Пер. Вяч. Иванова.
19. Нymn.,XXXI; orphycorum fragmenta, 270.
Часть II
БОГ И ПРИРОДА.
НАТУРФИЛОСОФЫ
Глава шестая
МИР КАК ГАРМОНИЯ. ПИФАГОР
Южная Италия, 540—500 гг.
Вселенная постепенно вырисовывается скорее как великая Мысль, чем как большая машина.
Д. Джинс
С именем Пифагора чаще всего связывают представление об ученом-математике и астрономе. Когда Коперник отверг геоцентризм, он ссылался на труды пифагорейцев, и хотя нет уверенности, что известная теорема была выведена самим Пифагором, его школа, несомненно, внесла огромный вклад в математические знания Запада [1]. Говорят, Пифагор был первым, кто назвал себя «любителем мудрости», философом, и таким образом место его — у преддверия античной мысли, рядом с его современниками, натурфилософами Милета. Однако те немногие сведения об этом человеке, которыми мы располагаем, рисуют Пифагора в первую очередь оккультным учителем и религиозным реформатором [2].
В то время как Орфей и Меламп остаются фигурами совершенно неразличимыми за пеленой мифов, Пифагор — лицо вполне историческое. Геродот, родившийся несколько лет спустя после его смерти, называет Пифагора «величайшим эллинским мудрецом» [3]. Даже малодостоверные легенды, из которых почти целиком состоят позднейшие биографии философа, помогают в чем-то уяснить его характер. В них проглядывают черты яркой индивидуальности.
Появление Пифагора означало качественно новый этап в умственной жизни греков. Прежде о Судьбе, богах, мире и людях говорили лишь поэты. Пифагор же — первый религиозный мыслитель и наставник Эллады, своего рода пророк, который стремился углубить и развить орфическую теософию.
История мысли — это в значительной степени история мыслителей. Личный гений оплодотворяет нерасчлененную и бесформенную стихию традиции, созидая нечто новое. Разумеется, вне стихии народного сознания и богословие, и философию, и искусство едва ли возможно себе представить; они питаются ею, как корни растения соками земли. (Даже такой «уединенный» мыслитель, как Кант, несомненно, вырос на почве протестантской религиозности.) Но, с другой стороны, без организующей силы индивидуального мышления эта стихия обречена была бы оставаться бесплодной. Именно сила творческой личности определяет значение Пифагора для античного мира.
«Религия, — по выражению Бердяева, — есть мистика, в которой засветился Логос, началось прозрение смысла вещей». Дионисизм и мистерии были мистикой подсознания; орфики первыми попытались внести в нее начало «разумения», но только Пифагор явился завершителем духовного течения, вышедшего из Дельф, Элевсина и культа Вакха. Более того, он в свою очередь пробудил интеллектуальное движение, которое привело к созданию философии Платона. Основатель религиозной доктрины и отец философского идеализма, Пифагор стоит, таким образом, на развилке путей эллинского духа.