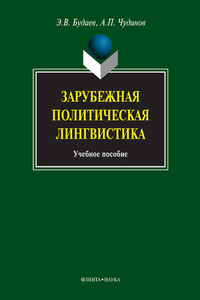Метафора в политической коммуникации | страница 66
С другой стороны, следует согласиться с тем, что «наиболее фундаментальные культурные ценности согласованы с метафорической структурой основных понятий данной культуры» [Лакофф, Джонсон 1990: 404]. Аналогичные мысли неоднократно высказывали и отечественные специалисты (Ю.Д. Апресян, А.Н. Баранов, Е.М. Верещагин, В.Г. Гак, Ю.Н. Караулов, В.Г. Костомаров, Е.С. Кубрякова, Б.А. Успенский и др.).
Сопоставляя названные тенденции, можно сделать вывод о том, что национальная метафорика в одних своих аспектах отражает современное состояние общества, национальную культуру и национальный менталитет, в других – типична для определенного культурного пространства (Запад, Россия, Восток, Африка и др.), а в третьих – имеет общечеловеческий характер.
Для верификации этих положений рассмотрим исследования по политической метафорике в политических дискурсах стран Востока, составляющих контраст с большинством исследований, направленных на анализ политической метафорики в цивилизационном пространстве Запада и России.
Действительно, метафоры, распространенные в политическом дискурсе стран Запада, довольно традиционны и для политической коммуникации Востока. Иллюстрирующим примером может служить монография Дж. Вэй [Wei 2001], в которой проанализированы основные метафорические модели тайваньского политического дискурса. В Тайване политические сущности метафорически представляются в понятиях военных действий, семейных отношений, зрелищных представлений, торговли и др. Выводы автора вполне сопоставимы с результатами похожих монографических исследований, проведенных специалистами из разных стран на примере политических дискурсов России, США и государств Европы [Charteris-Black 2004a, 2004б; Musolff 2000, 2004; Santa Ana 2002; Чудинов 2001, 2003].
Схожая ситуация наблюдается и при рассмотрении метафор в политическом дискурсе Сингапура. В частности, Л. Ви [Wee 2001] показал, что разъединение Сингапура и Малайзии и возможное воссоединение двух государств в будущем осмыслялось в метафорах супружеских отношений, что является довольно устойчивым фреймом для концептуализации политических ситуаций подобного рода в политическом дискурсе России, Великобритании, Германии, Польши и других стран [Баранов, Караулов 1991, 1994; Будаев 2006; Чудинов 2001; Zinken 2002].
Метафоры египетского политического дискурса в их взаимосвязи с семиотикой арабской культуры и текущей политической ситуацией рассмотрены в монографии И. Насальски [Nasalski 2004]. Как показывает польский исследователь, египетские метафоры отражают сложности переходного периода, в котором становление демократического мировоззрения переплетается с традиционными ценностями и символами. Вместе с тем доминирующие арабские метафоры (беременность, рождение ребенка, болезнь, пробуждение, дорога и др.) вполне согласуются с аналогичными образами в традиционной политической метафорике западной культуры.