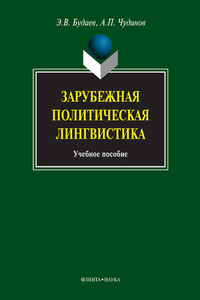Метафора в политической коммуникации | страница 60
Нейрокогнитивный подход к изучению метафоры начинает активно развиваться в конце 90-х годов, когда ряд лингвистов Калифорнийского университета и ученых из института компьютерной науки в Беркли объединяют свои усилия. Важным результатом интеграции этих усилий стало понимание того, что язык, когнитивные процессы и сенсомоторная деятельность связаны с активизацией одних и тех же участков нейронной сети. Например, при восприятии метафор движения в мозге человека осуществляется ментальная симуляция физического действия, результаты которой проецируются обратно на сферу-мишень, привнося инференции, вытекающие из ментальной симуляции моторной деятельности [Lakoff, Johnson 1999: 583].
Еще одним направлением развития нейрокогнитивной теории метафоры стали практические разработки компьютерных программ, моделирующих семантические сети коннекционистского типа [Chang et al. 2004; Narayanan 1997]. Такую программу С. Нараянан применил к анализу концептуальных метафор движения, задействованных при осмыслении политики и экономики в американской прессе [Narayanan 1999].
На становление нейрокогнитивного подхода оказала влияние теория первичных и сложных метафор [Grady 1997; Grady et al. 1996; Lakoff, Johnson 1999] и исследование К. Джонсона [Johnson 1999].
Согласно названным работам метафоры можно разделить на первичные (primitive) и сложные (complex). Процесс формирования первичных метафор происходит в раннем детстве в период так называемой фазы «конфляции» (по К. Джонсону), когда субъектный и сенсорно-моторный опыт еще не разъединены. Связи, установленные в этот период, сохраняются и проявляют себя на протяжении всей жизни человека и служат основой для формирования сложных метафор, которые образуются из первичных путем концептуального блендинга. Первичные метафоры рассматриваются в качестве своеобразных атомов абстрактного мышления, детерминированных телесным опытом, поэтому и сложные метафоры в конечном счете должны быть связаны с сенсомоторной деятельностью.
Подтверждения этой гипотезы предлагают исследователи психолингвистического направления. Основные сомнения у психолингвистов возникали по вопросу о том, сопровождается ли актуализация стертых метафор активными операциями над концептуальными доменами и не являются ли подобные метафоры своеобразными клише, пассивно усваиваемыми носителями языка. Эксперимент по верификации предположения Дж. Лакоффа о «телесном разуме» и подсознательном характере базовых концептуальных метафор был проведен в Калифорнийском университете в Санта Круз Р.В. Гиббсом и Н.Л. Вилсон [Gibbs, Wilson 2002]. В ходе эксперимента были установлены корреляции между моторикой испытуемых и употреблением антропоморфных, в том числе стертых метафор. При этом корреляции не варьировались в зависимости от национальности испытуемых (в эксперименте участвовали носители португальского и английского языков – бразильцы и американцы). Другие подтверждения тесной взаимосвязи между абстрактными концептами и деятельностью мозга по регулированию сенсомоторной деятельности человека предоставляет нейропсихология, точнее, все та же нейронная теория языка (neural theory of language) и теория «зубьев» (theory of cogs). Опираясь на названные теории и выдвинутые в когнитивной лингвистике гипотезы, Джордж Лакофф и известный итальянский нейропсихолог Витторио Галлези приводят в своей публикации ряд естественно-научных подтверждений теории «телесного разума», в частности показывая, что одни и те же участки мозга «отвечают» как за концепты, связанные с сенсомоторной деятельностью, так и за концепты, связанные с абстрактными идеями [Gallesi, Lakoff 2005].