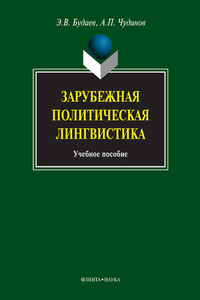Метафора в политической коммуникации | страница 58
Еще одно направление представлено исследованиями в русле постмодернистской теории дискурса Э. Лаклау. Теория постулирует всеобщую метафоричность всякой сигнификации, а анализ политического дискурса считается наиболее подходящим способом выявления этой онтологической метафоричности. Все «пустые означающие» (empty signifiers) политического дискурса конститутивно метафоричны, причем метафоричность проявляется в различной степени [Laclau 1996]. При таком подходе стирается граница между метафоричностью и «буквальностью» (метафорическим может считаться, например, лозунг «We can do it ourselves» – «Мы можем сами собой управлять»), а при анализе дискурса можно говорить только о степени метафоричности «пустых означающих» [Hansen 2005]. При более широком рассмотрении этот подход включается в направление постмарксистской теории дискурса [Howarth 2005].
По мнению В. Моттьер, адекватный анализ проблемы взаимодействия метафоры и властных отношений необходимо основывать на синтезе герменевтического подхода с эвристиками дискурсивного анализа М. Фуко, что позволит преодолеть крайности слишком широкого деконструктивизма и слишком узкого когнитивизма [Mottier 2005].
Характерная черта современных российских исследований – теоретическая и практическая разработка когнитивно-дискурсивного подхода к анализу метафоры, объединяющего описание роли метафоры в категоризации и концептуализации политического мира с рассмотрением особенностей ее функционирования в реальной коммуникации (А.Н. Баранов, Т.С. Вершинина, Ю.Н. Караулов, А.А. Каслова, Р.Д. Керимов, Е.В. Колотнина, Н.А. Красильникова, А.Б. Ряпосова, Н.А. Санцевич, Т.Г. Скребцова, А.М. Стрельников, Ю.Б. Феденева, Н.М. Чудакова, А.П. Чудинов, О.А. Шаова и др.). В основе этого подхода лежит тезис о невозможности четкого разграничения когнитивного и дискурсивного измерения метафоры. При когнитивно-дискурсивном подходе «усилия исследователя направляются прежде всего на то, чтобы выяснить, как и каким образом может удовлетворять изучаемое языковое явление и когнитивным, и дискурсивным требованиям» [Кубрякова 2004б: 520]. Метафора одновременно описывается и как ментальный, и как лингвосоциальный феномен, соответственно, только когнитивная или только дискурсивная трактовка метафоры препятствует ее адекватному описанию.
Таким образом, указание на социально-политические и историко-культурологические факторы действительности не исчерпывает потенциального многообразия экстралингвистической каузации порождения и функционирования метафоры в политическом дискурсе. Как отмечает А.П. Чудинов, при исследовании концептуальной метафоры в политическом дискурсе необходимо учитывать «все присутствующие в сознании говорящего и слушающего (пишущего и читающего) компоненты, способные влиять на порождение и восприятие речи» [Чудинов 2003б: 18].