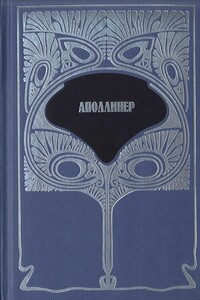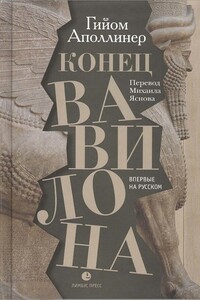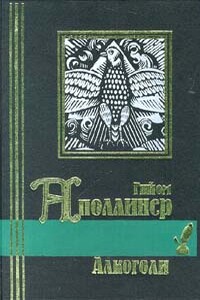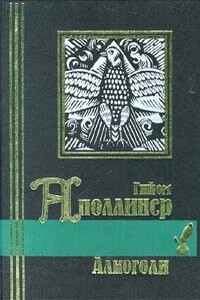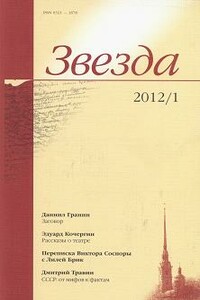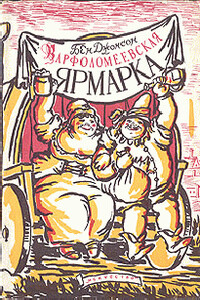Т.1. Избранная лирика. Груди Тиресия. Гниющий чародей | страница 25
БОМОН (А.). «Красавец полковник». Отличная сохранность.
БОРЕЛЬ (ПЕТРЮС). «Госпожа Потифар». Продается совершеннолетним.
БУАГОБЕ (Ф. де). «Обезглавленная». В двух частях.
<…>
ГАУПТМАНН. «Ткачи». В суровом полотне.
ГИБАЙ. «Морфинисты». Страницы исколоты.
ГРАВ (Т. де). «Темная личность». Без титульного листа.
ГРАНМУЖЕН. «Сейф». Роман с ключом.
<…>
ОРИАК. «Горшок». Бумага гигиенич.
РЕМЮЗА (П. де). «Господин Тьер». Маленький формат.
ТЬЕРРИ (Г.А.). «Бесцеремонный капитан». Неряшливая печать.
ФЛЕРИО (З.). «Иссохший плод». Премия Франц. академии.
ЭРВИЙИ (Э. д'). «Похмелье». Переплет с зеленцой. И т. д.
Аполлинер, пожалуй, первый в XX столетии писатель, к которому в полной мере можно отнести определение Мишеля Лейриса: «гражданин Парижа». В течение века ряд таких певцов города значительно пополнился, но имя Аполлинера — одно из ярчайших в этом ряду. Поэт путешествует по пространству и времени: пространство ограничено внешними бульварами Парижа, время — в основном знаменитая belle époque; по крайней мере, она — ключ к пониманию куда более пространной культурологической эпохи, где живые люди и тени умерших, реальные вещи и грезы равноценны, когда речь заходит о духовном осмыслении преходящих событий и вечных истин.
Аполлинер полагал, что современные поэты — прежде всего поэты «неизменно обновляющейся истины». Вот это движение к истине, к внутренней сосредоточенности, к вычленению из потока памяти драгоценных эпизодов прошлого тоже было своего рода «фланеризмом», то есть выбором духовной, умственной свободы, которая приходила к нему на его реальных и вымышленных маршрутах пешком по Парижу.
Выйдя из тени, Аполлинер предпринимал все новые и новые попытки вернуться к прежней интенсивной работе.
В июне 1917 года в театре Рене Мобеля на Монмартре, как в давние добрые времена, вновь встретились многочисленные друзья поэта на премьере его пьесы «Груди Тиресия», а в ноябре в знаменитом театре «Старая Голубятня» он прочитал текст, который фактически стал его поэтическим завещанием, — «Новое сознание и поэты». «Поэзия и творчество тождественны, — говорил Аполлинер, — поэтом должно называть лишь того, кто изобретает, того, кто творит — поскольку вообще человек способен творить. Поэт — это тот, кто находит новые радости, пусть даже мучительные»[7]. Несколько ранее он почти о том же писал Мадлен Пажес: «Конечно, жизнь поэта — жизнь незаурядная, но меня судьба втягивала в такие переделки, которые, несмотря ни на что, мне по душе — я умею радовать людей и сознаю это».