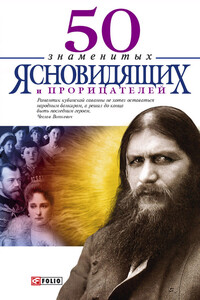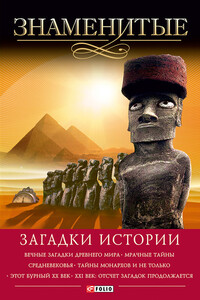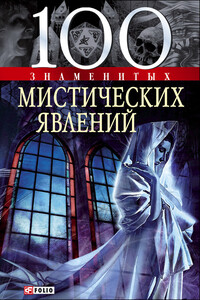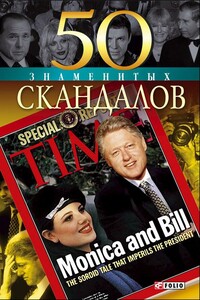100 знаменитых судебных процессов | страница 36
В числе приговоренных к расстрелу был иФ. М. Достоевский. Непостижимо, но к столь суровой мере писателя приговорили за чтение вслух письма Белинского к Гоголю — и только. Возможно, им было сказано и несколько радикальных фраз, но не более. Говоря протокольным языком, приговор Достоевскому был юридически слабо обоснован — писатель был осужден несоразмерно его вине. Оглядываясь на свою «петрашевскую» молодость, Достоевский много позже миролюбиво заметил: «Государство только защищалось, осудив нас». «Положим, что так, — пробует согласиться в своей книге «Пропавший заговор» И. Волгин, замечая при этом, — мера необходимой обороны была, однако, сильно превышена». 22 декабря 1849 года по возвращении с Семеновского плаца в Петропавловскую крепость Ф. Достоевский напишет, что он не утратил надежды когда-нибудь, после Сибири, увидеть и обнять близких ему людей. «Ведь был же я сегодня у смерти три четверти часа, прожил с этой мыслию, был у последнего мгновения и теперь еще раз живу!»
Позднее Достоевский скажет, что они стояли на эшафоте, не раскаиваясь в содеянном, и что людей, близких им по духу, но оказавшихся «необеспокоенными», на воле оставалось значительно больше. Действительно, от преследования удалось ускользнуть многим из бывших петрашевцев — Энгельсону, впоследствии деятельному участнику герценовской «Полярной Звезды», М. Е. Салтыкову-Щедрину и долгое время усердно посещавшему пятницы Петрашевского Аполлону Майкову.
Еще два писателя, которых смело можно причислить к петрашевцам, лишь потому не попали в число подсудимых, что умерли раньше начала следствия: это Валериан Майков и Виссарион Белинский. Майков был очень дружен с Петрашевским и принимал активное участие в составлении «Карманного словаря иностранных слов». Белинский за свое письмо к Гоголю, вероятно, был бы причислен к «преступнейшей категории сообщества», так как многие из петрашевцев были повинны только в распространении этого письма.
«Дело Петрашевского» долго было государственной тайной. Само имя Белинского было изъято из обращения и даже в первые годы царствования Александра II не произносилось в печати прямо, а заменялось выражением «критик гоголевского периода». Эта таинственность, в связи с суровым наказанием, понесенным участниками «общества пропаганды», создала представление о «деле Петрашевского» как о серьезном политическом заговоре, который часто ставился в один ряд с заговором декабристов. «Члены общества, — говорил в своем докладе Липранди, — предполагали идти путем пропаганды, действующей на массы. С этой целью в собраниях происходили рассуждения о том, как возбуждать во всех классах народа негодование против правительства, как вооружать крестьян против помещиков, чиновников против начальников, как пользоваться фанатизмом раскольников, а в прочих сословиях подрывать и разрушать всякие религиозные чувства. Из всего этого я извлек убеждение, что тут был не столько мелкий и отдельный заговор, сколько всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения».