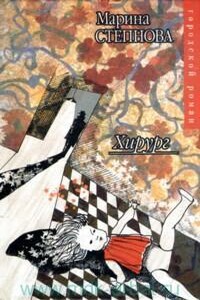Сборник рассказов | страница 48
А потом старая сука стала слепнуть и все больше времени проводила в будке — в коротких, призрачных, ярких сновидениях, которые ловко и быстро подергивали ее за лапы и за брыла, как в те далекие времена, когда старая сука была еще круглым умильным щенком с тугим голым пузиком и видела во сне такие же точно радостные, бессмысленные погони за невиданными бабочками и, радужными пузырями… А ведь никто с ней так ни разу и не поиграл, и ни разу ни за кем ей ни пришлось гнаться, обмирая от счастья, молодости и кипящего в мышцах щекотного, головокружительного света. Она была еще полна привычной вполне осмысленной, но беспричинной злобы, но сил теперь хватало только на то, чтобы таскать за собой спекшуюся от времени и с каждым днем все более неподъемную цепь. Запахи, звуки — тонкие, ночные, и грубые, сочные, лопающееся — днем, исчезали, таяли, один за другим, один за другим, и все ближе подступала тьма, безмолвное небытие, в которое падают один раз, но навсегда. Без всплеска, без надежды, без прощения, без надежды на прощение.
Последним, что связывало ее с жизнью, оказалась будка — покосившаяся, уродливая, щелястая, набитая перепревшими тряпками и щелкающей от блох соломой — но это было ЕЕ МЕСТО и она, старая, едва шевелящаяся, никем не любимая, была готова сражаться за это место до смерти, до конца, не понимая, что конец этот уже наступил, и бабка, уставшая от старческого пустопорожнего бреха во дворе, уже сходила к соседу, уже отнесла ему залитую сургучом чебурашку с самой дешевой и паршивой водкой. Все у них в роду были жадные. Жадные и злые. Колено за коленом, поколение за поколением. Со всех сторон.
Сосед пришел к вечеру — почему-то всегда такое случается к ночи, будто темнота — действительно тут при чем, и она в последний раз рванула навстречу врагу, оберегая свое никому не нужное место, старая, слабая, жалкая, вся в парше, только ярость была молодая, ярость не старела, и в наплывающих сумерках эта последняя ярость была такой яркой, что затмила собой даже вспышку выстрела и последний визг старой суки, ее последний собой захлебнувшийся вздох.
Алина Васильевна вздрогнула еще раз и проснулась — мокрая от пронзительного ужаса насквозь, приснится же такая хрень, вот, ночнушку теперь стирать, да за что ж мне это, Господи, за что меня так? И вдруг замерла, глядя в черноту перед собой — в голове, внутри, было ясно-ясно и пронзительно холодно, будто кто-то протер там все ледяным, сияющим кубиком замороженного света. Это и был ответ. И не ответ даже — это было продолжение разговора, ее разговора с Богом, тихого, непрестанного, длинной в целую жизнь монолога — ее и Его, в котором оба не поняли и не расслышали ни слова.