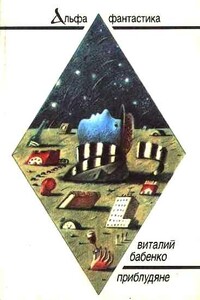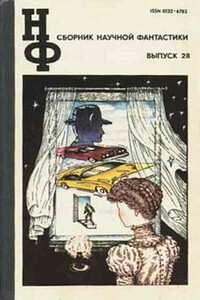Поломка в пути | страница 10
— Поэзия двадцатого столетия? — переспрашиваю я. — Хорошо, Александр Сергеевич. Я согласен. Не свои стихи, конечно. У меня их, собственно… Я прочитаю вам любимых моих поэтов. Книг у меня здесь, к несчастью, нет. Я почитаю, что помню.
— Давайте же! — говорит Пушкин.
Он садится на лавку, закидывает ногу за ногу. Бросаются в глаза узкие панталоны со штрипками, порыжевшие на сгибах кожаные сапожки. Взгляд ожидающий, тревожный.
Я начал с Блока. Со строк, что обожгли меня еще в ранней юности.
Память у меня хорошая, стихов помню много. Сначала от волнения я запинался. Но взгляд Пушкина был полон такого жадного внимания, что я немного успокоился. Впрочем, нет. Спокойствие — не то слово. Голос мой и теперь был неровен, но причины тому были другие. Другое, более высокое волнение вело меня от строки к строке.
Несколько раз слушатель мой выказывал необычайное возбуждение, и я на миг замолкал. Но он тут же хватал меня за руку и шептал жарко: «Еще, еще!»
Что это была за ночь! Горя щеками и задыхаясь, я переходил от поэта к поэту, вновь возвращался, кружил и петлял. «Наше священное ремесло существует тысячи лет… С ним и без света миру светло. Но еще ни один не сказал поэт, что мудрости нет, и старости нет, а может, и смерти нет».
Я читал. Грохотала и хохотала, хрипела и пела, любила и била поэзия двадцатого века. Русская поэзия.
Иногда Пушкин вскакивал, жарко расспрашивал об авторах стихов, о том, как они жили и как умерли.
Я читал. «Сороковые, роковые, свинцовые, пороховые… Война гуляет по России, а мы такие молодые!» Я торопился, захлебывался. Боялся — не успею. Вот это. И это. А без этого как же?
Временами, цепенея, я говорил тихо и тонко. «Врасплох застигнутый подсвечник метнулся тенью по стеклу, в стакане вздрогнул и вздохнул последний из лесу подснежник». И снова обретал голос и чеканил: