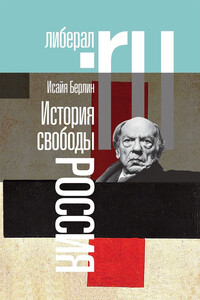Философия свободы. Европа | страница 69
Если мы поинтересуемся, каких историков дольше всего почитало человечество, мы выясним, что это не самые изобретательные историки и не самые точные, не первооткрыватели фактов или неожиданных связей, но те, кто (как гениальный писатель) умел показать людей, общество и события многомерными, показать их на разных взаимопересекающихся уровнях; показать живыми; показать, наконец, что отношения этих людей друг с другом и с окружающим миром таковы, какими они, на наш взгляд, и могут быть. Тем, кто занимается естественными науками, нужно совсем другое: творческое сомнение, смелость гипотез, не вытекающих прямо из опыта, умение доходить до логического конца, выходить за рамки здравого смысла, не боясь, что получишь что-то странное и непривычное. Только так отыщут они новые истины, уверенность в которых (для психологии и антропологии не меньше, чем для физики и математики) не зависит от того, вписываются ли они в рамки обыденного человеческого опыта. Если мы требуем от истории, чтобы она стала естественной наукой в этом смысле, мы хотим, чтобы она противоречила самой себе.
Все, вероятно, согласятся, что полному контакту с реальностью противоположны склонность к фантазии или жизнь в воображаемом мире. Но есть и другие способы отрицать реальность. Что, если «быть ненаучным» значит отрицать устоявшиеся гипотезы и законы, и не по какой-то логической или эмпирической причине, а просто так? Тогда «быть неисторичным» значит прямо противоположное, а именно — подавлять или искажать собственный взгляд на те или иные события, личности, ситуации во имя законов, теорий, принципов, заимствованных из других сфер знания. Принципы эти могут быть логическими, этическими, метафизическими, научными; главное не это, а то, что они противоречат самой природе материала. Как опишешь иначе то, что делают теоретики, которых называют фанатиками, ибо их вера в собственную теорию настолько сильна, что чувство реальности не способно ее поколебать? Поэтому всякая попытка создать дисциплину, которая бы относилась к конкретной истории как чистая наука к прикладной, ничем не отличается от квадратуры круга, и тут неважно, чего еще добьются естественные науки, даже если (как думает всякий, кроме мракобесов) они откроют настоящие, эмпирически подтверждаемые, законы индивидуального и коллективного поведения. Надеяться на успех таких попыток не просто бесполезно, но абсурдно, ибо превратить историю в естественную науку — не идеальная цель, которая пока недостижима по человеческой слабости, а химера, порожденная непониманием самой природы естественных наук, или природы истории, или того и другого.