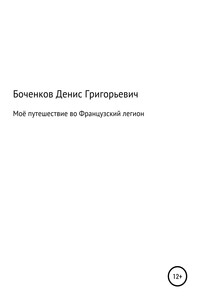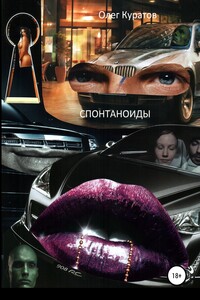Семь ликов Японии и другие рассказы | страница 87
Может быть, поэтому нам не стоит так упрекать эту страну, когда она притворяется глухой к нравственным альтернативам, которые кажутся нам важными; когда она не позволяет отравлять себе экономический оптимизм, имеющий оппортунистическую сторону. Позиции, в которых Япония не проявляет индивидуального характера – или того, что мы на Западе понимаем под этим, – могут иметь будущее, а отказ от определения геополитических обязательств – свою мудрость. Япония, вольно цитируя Брехта, не желает иметь хребет, который можно сломать. То, что мы принимаем за устойчивый интерес к выгоде, возможно, является единственным работающим коммутатором между первым и третьим и ее четвертым миром. Ведь кажется, что бедные находят речь бизнесмена менее безнравственной, чем речь миссионера. Это незаметный, маленький знаменатель, с помощью которого Япония контактирует с остальным миром, но именно это, возможно, является основным и решающим.
Мне представляется, что в этой японской лаборатории человечество тестирует свою способность выживания. Своя логика и, наверное, своя справедливость заключаются в том, что эта проверка больше не проводится на земле того гуманизма, который мы именуем «западноевропейским», «христианским». Однако прошло то время, когда можно было считать, что Япония отняла «у нас» факел Прометея. Она гонит технологическую цивилизацию все дальше и дальше, на что у нас не хватает смелости; у нас есть все основания для беспокойства, для любопытства и для интереса к тому, как Япония распоряжается семенным фондом цивилизации. Так как она научилась ставить на чаши весов несоизмеримое, ничего не оценивая, Япония может оказаться более готовой к хаосу, которого мы страшимся. Возможно, в нем она оттачивает те модели, которыми мы восхищаемся во фрактальных фигурах – образах упорядоченной хаотичности. Они больше не похожи на дорические колонны или фигуры картезианской логики. Скорее они напоминают сакральные тибетские символы – мандалы или облака на небе – или многозначность каждого человеческого проявления. Они настраивают на непредсказуемость нашего существования. Обмерить его мерилом собственника до сих пор без ошибки не удавалось. Япония начала по-другому. Ресурсы ее культуры, включая опыт Хиросимы и Нагасаки, наверняка вооружили ее лучше, чем нас: обоснованный страх человека ставить под сомнение самого себя. Может быть, мы поступаем вовсе не дурно, делая ставку на потаенный здравый смысл японского «безрассудства».