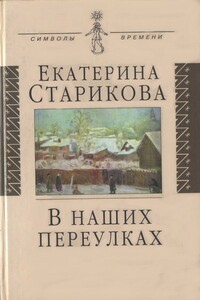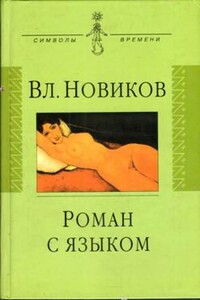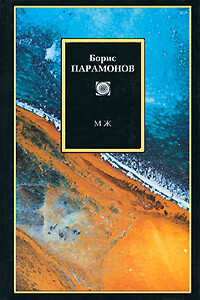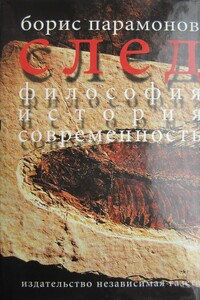Конец стиля | страница 9
Для оценки, скажем, Бердяева первостепенно важен его гомосексуализм или даже его тик, с вываливанием языка, что понял в последних своих мемуарах Андрей Белый, оставивший своего рода моментальную фотографию этого хэппенинга. Разговоры о том, что человек умирает в книге, а остается писатель, о нем же и судите, устарели. «Я поэт, этим и интересен»; а самоубийством не интересен? — говорящем и о человеке, и о культуре эпохи никак не меньше, чем стихи того же автора? В стихах же Маяковского пробки в Моссельпроме не менее интересны, чем «Про это». Человека надо брать целиком, в эмпирической конкретности, а не в отчуждающем абстракте творчества, «целостность» творчества мнимая, это пережиток эпохи эстетизма. Это выдумали романтики, но они же, как подлинные постмодернисты, как раз любили подчеркивать в творческом облике биографический материал, выпячивали его. Их любовные истории, чудачества, пьянство, карточные долги становились элементом романтической эстетики, здесь и был отход от классицизма, от мраморных ликов школы, от обязательной программы. То же было в России в «серебряном веке»: Блок = стихи + биографическая легенда, даже «анкетные данные». Это же очень любят в демократической Америке: если вы чуть-чуть выделились, пожалуйста, расскажите о ваших сексуальных преференциях. И это делают охотно. Никогда не забуду интервью Барбары Уолтерс с Боем Джорджем: Are you bisexual? — Certainly I am. И это не распад, не гибель и конец времен, а культура, постмодернистская культура. Я даже думаю, что Константину Леонтьеву понравился бы современный Запад, он ведь цеплялся за форму, не дающую материи разбегаться, не из любви к этой форме, а пытаясь кое-что утаить, прикидываясь джентльменом. Его держал в эстетизме, в «форме» самый обыкновенный страх — быть замеченным полицией нравов. Лишите эстетов этого страха, и вы увидите подавляющее большинство их не в рядах адептов чистого искусства, а в грязных притонах. Постмодернизм: реабилитация притонов, придание им легального статуса, институции и процедуры демократического выбора. И главное: прояснившееся сознание, что притонов вообще нет. Смерть морализма как отвлеченного начала — апелляция к целостности, включающей, а не исключающей эмпирику.
Корней Чуковский, человек нетеоретический, пишет о героях Алексея Толстого, что они дураки, тем и интересны; в дневнике же добавляет, что и сам Алексей Толстой такой же интересный дурак, с себя и пишет. А Шкловский, писавший о том же, дурачество героев А. Толстого подает как знак литературной эволюции: дурак понадобился якобы для того, чтобы преодолеть канон психологической прозы. Он берет А. Толстого-человека как деталь его же собственного стиля: тоталитаристская установка. Шкловский по нынешним временам очень устаревший теоретик; но он, будучи гением, причем романтического склада, очень хорошо понимал значение биографического материала, и прозу писал о себе, с той же установкой и скандалил. Он шире формализма; но постмодернист он именно в элементе скандала. Из теории Шкловского как будто должно остаться учение об отстранении как способе обновленного переживания бытия, каковое переживание вообще объявляется целью искусства; но тогда получается, что искусство — это для импотентов, живой человек сменит не книгу, а женщину. «Читать взасос» — что-то в этом образе есть не вовсе бравое. Говорил же Фрейд, что искусство это легкий наркотик. Еще спасает теорию учение об эволюции художественных форм, о смене стилей; но это ведет опять же к тому, что литература как целое первичнее писателей, что литературная эволюция безлична. Пример самого Шкловского показывает приоритетность его как человека. Шкловский-любовник Эльзы важнее Шкловского-автора «Zoo». Вот что такое постмодернизм, и я не могу сейчас придумать другого примера, более четко представляющего проблему. Шкловский перечеркнул настоящее письмо Эльзы красными чернилами, потому что ему нужно было донести до сознания читателей условность «Али»: никакой несчастной любви там не было, несчастная любовь потребовалась для книги, а книга внушала, что несчастная любовь лучше счастливой, а Берлин хуже Москвы. Приехав же в Москву, Шкловский написал: «живу тускло, как в презервативе» («Третья фабрика»): ему, видите ли, не давали творчески излиться. В горизонт эстета как-то не входит, что прожить девяносто с лишним лет, ни разу не сев в тюрьму, важнее всяких книг.