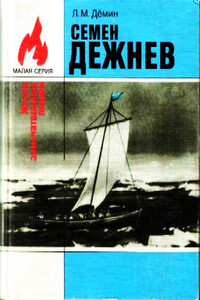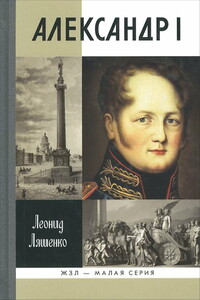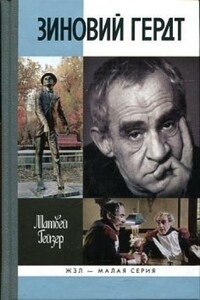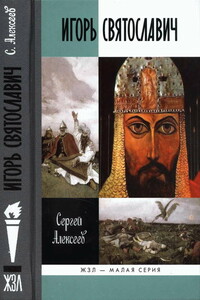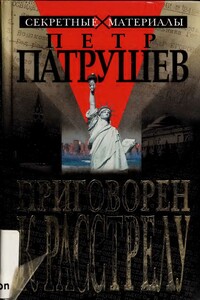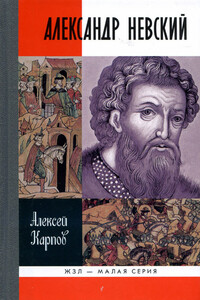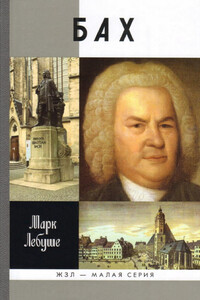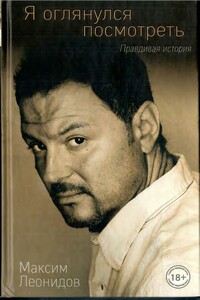Бальзак | страница 10
Когда Бальзак начинал свою литературную карьеру, этот остракизм в отношении романа всё еще сохранялся. Большое количество романов «потреблялось» массовым читателем, но учёная публика смотрела на это явление свысока. В качестве свидетельства такого положения можно привести сугубо французскую, но очень показательную закономерность: ни один из великих романистов XIX века — ни Бальзак, ни Стендаль, ни Флобер, ни Золя — не был членом Французской академии. Академиком был Гюго, но его избрали как драматурга. Из романов им тогда был написан только «Собор Парижской Богоматери». Самой идеей «Человеческой комедии», её гигантским размахом, многократно объявленным замыслом показать общество и его движущие силы Бальзак, можно сказать, заставил критику и читателей по-новому взглянуть на возможности романа.
Эпоха романтизма любила создавать мифологические образы великих творцов. Гомер был слепым, Данте спускался в Преисподнюю, Сервантес потерял руку, Тассо подвергся тюремному заключению. У Вольтера была его улыбка, та самая, которую Мюссе назвал «жуткой» (Бальзак сравнил ростовщика Гобсека со статуей Вольтера в Пале-Рояле). Такой же романтический приём щедро распространялся и на современников. У Шатобриана растрёпанные волосы, Байрон умер в Миссолонги, сражаясь за свободу Греции. Гюго осознанно эксплуатировал свой образ поэта-изгнанника, пророка, чей голос разносился над скалами Гернси.
Существует и легендарный образ Бальзака. Это обременённый долгами человек, все сочинения которого повествуют о деньгах. Это Вулкан, в поте лица работающий в своей кузнице, поглощая кофе литрами и выковывая десятки романов — «Евгения Гранде», «Утраченные иллюзии», «Баламутка», «Цезарь Биротто», «Кузина Бетта», «Отец Горио», «Блеск и нищета куртизанок»… — вместе составляющих один роман. Уже при его жизни стал знаменитым монашеский балахон, в который он облачался, садясь за работу. Можно не прочитать ни страницы из Бальзака, но знать этого довольно тучного мужчину с решительным взглядом, лбом, рассечённым единственной складкой, в рубашке с раскрытым воротом, рукой на груди, — каким увековечил его фотограф-современник. Можно, не читав его, узнать эту коренастую, кряжистую фигуру, созданную гением Родена уже после смерти писателя.
За этим простым и широко известным образом, равно как и за расхожими представлениями о его творчестве скрывается, однако, немало парадоксов.
Его считают романистом из романистов, а он предпочитал называть свои произведения «сценами», «этюдами», «физиологическими очерками». Он обожал Рабле, но чаще сравнивал себя с Бюффоном. Этот великолепный рассказчик историй желал прослыть мыслителем, моралистом, историком, социологом — если бы в его время существовал этот термин.