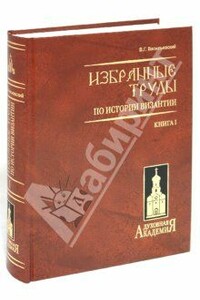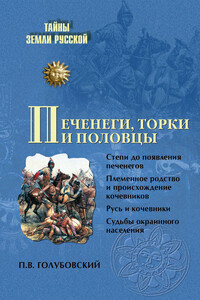Печенеги | страница 60
Впрочем, не все союзники, участвовавшие в битье 29 апреля, бежали за Балканы. Те, которые остались, сначала получили щедрое угощение; внимание императора к ним простиралось так далеко, что он выдал им награду только тогда, когда они проспались от опьянения и стали хоть немного сознавать, что совершается вокруг их[69]. Важный греческий чиновник проводил их до Балканских проходов, так как они считали это нужным для своей безопасности. Но за Балканами воинственной орде была предоставлена полная свобода, и она не замедлила ей воспользоваться для того, чтобы, вслед за ушедшими ранее товарищами, устремиться на Венгрию. Едва король Ласло I успел справиться с куманами, опустошившими Трансильванскую область и некоторые восточные венгерские комитаты, как на Дунае, на юго-восточной границе, явились новые полчища той же самой Половецкой орды в сопровождении, можно догадываться, удальцов другой народности. Предводитель орды требовал у венгерского короля выдачи своих полоненных соплеменников. Ласло I, отвергнув дерзкие требования, быстро вышел навстречу врагам и разбил их наголову неподалеку от Дуная. Считая русских виновниками или, вероятно, участниками половецкого нашествия, венгерский король вслед за тем обратился немедленно против соседних русских областей. Венгерский летописец, быть может несколько хвастливый, рассказывает, что русские, сильно стесненные королем Ласло I, просили у него помилования и обещали ему полную верность и что раскаяние их было принято победителем благосклонно[70].
В начале мая император Алексей с торжеством воротился в свою столицу. Ужасные враги, которые недавно стояли под ее стенами, лежали теперь грудами трупов в долине Марицы. Только небольшая часть печенегов уцелела в греческом лагере. Эти остатки несметной прежде орды были поселены императором Алексеем на восток от реки Вардар, в Могленской области, и появились потом в рядах византийской армии, составив в ней особый род войска.
Половцы оказали громадную услугу христианскому миру. Предводители их, Боняк и Тугоркан, должны быть по справедливости названы спасителями Византийской империи. Помощь Запада, которой просил и уже ожидал император Алексей, не могла прибыть так скоро, как он это считал возможным; неоконченная борьба с императором и антипапа Климент связывали совершенно деятельность Урбана II до 1094 года, когда он восторжествовал над своими врагами и над всеми домашними затруднениями; ранее этого года умер друг Алексея, граф Роберт Фриз, союзник, быть может, более деятельный, но зато и более отдаленный. Между тем Византия, как мы знаем из прямых признаний цесаревны Анны, решительно не имела сил и средств, чтобы продолжать борьбу с двойным турецким нашествием. Предположим самый благоприятный ход дела. Константинополь мог выдержать долгую осаду, мог дождаться крестоносного ополчения; оно собралось бы скорее ввиду настоятельной и продолжающейся опасности и ради усердной мольбы византийского императора скорее, чем это последовало на самом деле. Но Первый крестовый поход имел бы несомненно совершенно другое направление и совершенно другой исход, если бы Боэмунды и Готфриды явились как спасители греческой столицы, если бы обдуманному и смелому честолюбию одного и упрямой благочестивой гордости другого не было противопоставлено ни самостоятельной византийской политики, ни самостоятельной греческой армии, если бы в распоряжении Алексея Комнина не было, как это было в 1096 году, тех печенежских наездников, которыми он так искусно пользовался, когда нужно было побудить крестоносных союзников к скорейшему удалению от стен Константинополя, к скорейшей переправе на азиатский берег Босфора, когда нужно было предупредить отклонение крестоносной рати от прямой, ей указанной дороги и от святой и высокой цели — освобождения Гроба Господня, а не Константинополя, как это предполагалось прежде и как это засело в умах крестоносных ратников.