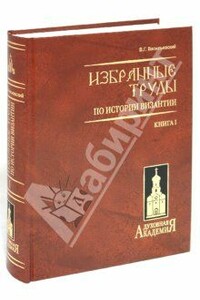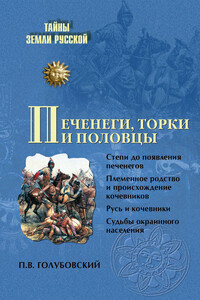Печенеги | страница 49
Папа Урбан, посоветовавшись с графом Рожером Сицилийским, во владениях которого находилось много греков, державшихся восточного обряда, принял предложение византийского императора. Серьезность его миролюбивого настроения доказывается тем, что в том же 1089 году последовало разрешение Алексея Комнина от церковного отлучения, которое лежало на нем как схизматике.
В самом Константинополе желание примирения с Западом могло только возрастать сильнее и сильнее. При отсутствии прямых исторических на это указаний мы обращаемся к произведениям знаменитого иерарха и богослова греческой церкви, известного нам Феофилакта Болгарского, который именно около этого времени был поставлен в сан архиепископа и всегда был очень близок ко двору и к сферам, решавшим вопросы церкви и государства. Мы не ошибемся, если его в высшей степени замечательное сочинение о заблуждениях латинян отнесем приблизительно к 1091 — 1092 годам и увидим в нем знамение времени. Сочинение писано по вызову одного духовного лица[64], занимавшего довольно видное место в рядах клира великой церкви в Константинополе, но автор имеет в виду более обширный круг читателей и постоянно обращается вообще «к братьям», к «рабам Христовым, друзьям и братьям», то есть ко всему клиру Софийской церкви, глубоко заинтересованному в начатых переговорах с папой. Вопрос о заблуждениях латинян, обращенный к Феофилакту, именно был вынужден тяжелыми и суровыми обстоятельствами, как это прямо сказано в самом начале ответного послания. Но автор радуется, что Божественные знамения, служащие одним в наказание, на других производят спасительное действие.
Что касается основной темы сочинения, то она в высшей степени поразительна. Автор послания прямо объявляет, что он не разделяет общепринятого мнения о разделении церквей. Он не находит, чтоб ошибки латинян были многочисленны и чтоб эти ошибки делали церковное разделение неизбежным. Он восстает против того духа богословской нетерпимости и теологического высокомерия, которое господствует среди его ученых единоземцев и современников. «Мы думаем, — говорит он, — что для приобретения в глазах толпы славы первостепенных мудрецов в делах Божественных необходимо как можно большее число людей записать в еретики; что только тогда мы докажем, что имеем глаза, когда ясный свет представим глубокой тьмой». С некоторой иронией перечисляет ученый архипастырь ходячие обвинения против латинян: кроме опресноков, поста субботнего и безбрачия духовенства, им ставят в великую вину то, что у них священники бреют бороды, носят на руках золотые перстни и одеваются в шелковые ткани и т.д., что монахи позволяют себе есть мясо и пр. «Быть может, кто-нибудь, — замечает Феофилакт, — из верных и более горячих ревнителей православия восстанет и обличит меня в невежестве, в непонимании вещей божественных, пожалуй, в холодности или даже в предательской измене своей церкви. Конечно, сам он насчитал бы (латинских заблуждений) много больше того, что я привел, Но я, — заявляет Феофилакт в выражениях, напоминающих Петра Антиохийского, — даже из числа перечисленных заблуждений одни считаю не заслуживающими внимания, другие — заслуживающими умеренного исправления, то есть такого, что если кто его совершит, то окажет некоторую услугу церкви, а если нет, то тоже не будет большого вреда». Есть только один пункт, который действительно разделяет две церкви, — это нововведение в символе веры, сделанное латинянами. Здесь невозможна никакая уступка, здесь Феофилакт прямо обращается к римлянам с обличением их заблуждения. Здесь он не может принять никаких извинительных соображений. «Латиняне могут сказать, что они веруют и мыслят точно так же, как мы, что под исхождением от Сына они понимают другого рода исхождение, чем от Отца: от Отца Дух исходит, потому что Отец виновник его бытия, от Сына Дух исходит в том смысле, что как бы изливается и раздается Сыном, а не в том, чтобы Сын был виновником Его бытия, что принадлежит только Отцу. Латиняне могут сослаться на бедность и скудость латинского языка, которые заставляют их два разные понятия выражать одним и тем же словом, не отступая нисколько от согласия в вере с греками». Учитель греческой церкви готов на братское снисхождение. Но оно может состоять только в том, что латинянам будет предоставлено право пользоваться своим способом выражения в церковных беседах и поучениях, с объяснением, однако, смысла употребляемых выражений. Что же касается символа, то здесь не может быть и допущена никакая неясность и двусмысленность, никакое прибавление; ибо в символе именно выражается согласие, единодушие веры, исповедание, всеми одинаково понимаемое, без чего-либо подразумеваемого.