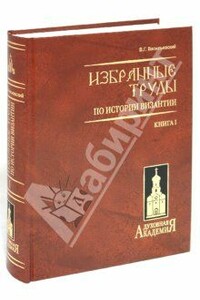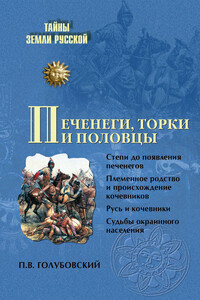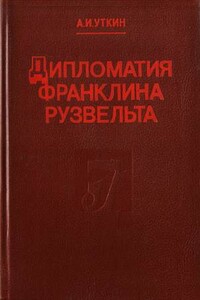Печенеги | страница 33
В Верое (Эски-Загра) явился к Алексею один из вернейших его друзей и советников, Георгий Палеолог, отставший во время бегства. Палеолог рассказывал, что он обязан спасением своей жизни только чуду. Его загнанная лошадь пала, печенеги преследовали его по пятам, но в самую критическую минуту какое-то сверхъестественное существо явилось ему в образе епископа Халкидонского и подвело ему коня, на котором Палеолог и успел ускакать от погони. Чудесный конь был потом все-таки убит под беглецом печенежскою стрелой, и Палеолог более десяти дней скрывался в горах у одной бедной вдовы. Анна Комнина, веруя в чудо, искренно недоумевает, как могла небесная сила избрать для своего проявления образ епископа, который не был приятен ее отцу и заподозрен был в неправильном понимании некоторых богословских вопросов.
Не все были так счастливы, как император Алексей и Георгий Палеолог. Число византийцев, доставшихся в пленники печенегам, было весьма велико; в этом числе были такие знатные лица, как зять императора кесарь Никифор Мелиссин. Печенежские князья, раздраженные нападением Алексея на их улусы, думали о самой варварской мести и хотели перерезать всех пленных греков без исключения. К счастью, первобытные формы печенежского политического устройства требовали в важных делах всенародного согласия на вече. Печенежский комент, в истории св. Бруно являющийся таким свирепым, на этот раз восстал против жестокого решения своих ханов: пусть лучше император выкупит пленных; ради своих родных он, конечно, не откажется дать выкуп богатый. Кесарь Никифор, из опасения за свою жизнь «поощрявший» печенегов к такому решению, написал императору в Верою об условиях выкупа. Много убыло казны из константинопольского казначейства для удовлетворения корыстолюбивых варваров.
Печенеги умели ценить византийские дукаты с тех самых пор, как греческая монета явилась на свет с этим названием (то есть уже со времен Константина Дуки); они знали также достоинство шелковых тканей с фивских и коринфских фабрик; но на этот раз богатство принесло несчастие печенегам. Едва они успели поделить свои барыши, как явились куманы, приведенные Татушем (который, как сказано было, отправился искать их помощи). Половецкие ханы, которые до сих пор грабили больше небогатые города и села русские, поражены были удивлением и завистью при виде сокровищ, доставшихся их соплеменникам, и потребовали нового дележа в пользу половцев, совершивших такой далекий путь. Нужно признать, что соображения и мотивы, которые кесаревна Анна влагает в уста опоздавших помощников, весьма согласны с обстоятельствами и характером действующих лиц. «Мы оставили свои вежи, — говорили куманы, — проехали такое пространство, чтобы поспешить на помощь вам. Мы готовы были разделить все опасности, следовательно, имеем право рассчитывать на все выгоды счастливой победы. Мы, со своей стороны, сделали все, что от нас требовалось: нельзя после этого отпустить нас с пустыми руками. Разве мы виноваты, что греческий каган вступил в сражение, не дождавшись нас»? Жадные и неблагодарные печенеги остались глухи пред голосом справедливости и логики и наотрез отказались удовлетворить своих союзников. Что произошло далее, можно вперед угадать. Варвары рассорились, а потом подрались из-за византийского золота. Щадить друг друга они не умели: завязалась обычная кровавая, дикая, неумолимая борьба. Половцы оказались сильнее; печенеги были разбиты и загнаны в болота около низовьев Дуная. Только недостаток в съестных припасах заставил половцев отказаться от желания довершить свою месть над печенегами полным их истреблением. Уходя домой, на берега Днепра и Дона, половецкие ханы возымели, однако, твердое намерение воротиться в скором времени назад.