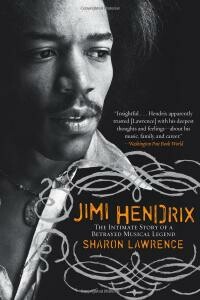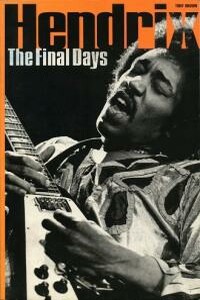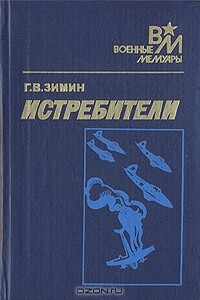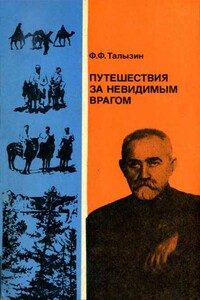История одного путешествия | страница 31
Это приключение создало мне эфемерную славу. Моя русская солдатская форма делала меня приметным: вечером в кафе на Каннебьере меня узнали, и мне пришлось спасаться от криков:
— Vive le toreodor Russie! Le voila!
5
В те дни, когда тоска дошла до последнего предела и от постоянного пьянства вся казарма могла заболеть белой горячкой, Иван Юрьевич решил в первый раз соединить нас вместе. Собралось семь человек: Артамонов, Плотников, Мятлев, Вялов, Кузнецов, Петров и я.
Мы сидели в закутке Артамонова, отгороженном от казармы войлочными стенами. Было холодно. Закутавшись в наши солдатские шинели, мы прижимались друг к другу, напрасно стараясь согреться. Пар, выходивший изо рта, смешивался с длинными волокнами папиросного дыма и медленно таял в ледяном воздухе.
Иван Юрьевич говорил совсем не так, как я ожидал, — от нервности и взволнованности, которыми он был охвачен в тот вечер, когда на темном пустыре, между ямами, под острыми ноябрьскими звездами, в первый раз он заговорил со мною о России, от почти болезненного напряжения, с которым он произносил косноязычные слова, теперь ничего не осталось. Иван Юрьевич говорил просто и точно, совсем не красноречиво, но то, что он говорил, было одинаково понятно и мне, и Петрову.
— Нам будет очень трудно пробраться на Кавказ, но если мы доберемся, то, значит, в нас достаточно силы для настоящей, большой борьбы. Поначалу мы уйдем к зеленым, — на Кавказе, в горах, полно зеленых. Там, среди зеленых, мы будем пополнять нашу группу. Мы будем брать к себе тех, кто борется с большевиками и с белыми. Помните — нам не по дороге с генералами. Мы должны создать новую Россию — мужицкую. Белое движение в России кончено, белые разбиты. Мы едем драться за зеленую свободу, за свободу наших зеленых полей и зеленых лесов.
Мы слушали как зачарованные. В ту минуту в Марселе, в грязном Конвингтонском лагере с его утольно-черной землей, в железном дырявом бараке, где свободно прогуливался ледяной мистраль, слова Артамонова казались нам откровением. Мужицкая Россия! Это мы понимали все — и Мятлев, и Плотников, и Вялов, и я: во мне заговорила кровь моих прапрадедов и прабабок — крепостных крестьян господ Карповых и Энгельгардтов.
Тусклый свет самодельной плошки отражался в желтых глазах Артамонова. Он слегка покачивался в такт речи, его узкие губы еле раскрывались, как будто он говорил для самого себя. Потухшая папироса застыла в неподвижной, окоченевшей руке. Обращаясь к Мятлеву, невольно съежившемуся под его суженным, пристальным взглядом, Артамонов сказал: