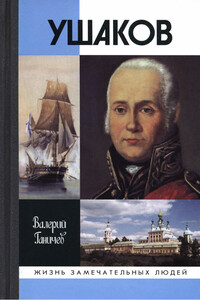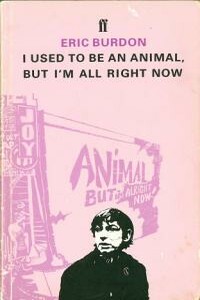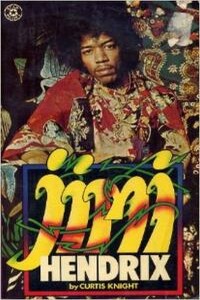История одного путешествия | страница 29
Кузнецов замолчал, потом быстро повернул круглую голову на тонкой шее, исподлобья взглянул на меня стеклянными глазами, в которых на секунду отразилось охватившее его волнение.
— Лучше этого ничего нет в жизни. Я все готов отдать. У меня после того, как я ходил с бабой, душа как будто выстиранная да выглаженная — ни пятнышка, ни «складочки. Только вот беда — ненасытный я. Иной раз уже больше не можешь, а все продолжаешь об этом думать, — несносная и упрямая у меня мысль.
Кузнецов сокрушенно вздохнул, упрямо не отрывая глаз от своих начищенных до последнего блеска тупоносых башмаков. Я вспомнил, что чистке башмаков он посвящал целые часы. Я заговорил с ним о России. Кузнецов слушал меня внимательно, не перебивая, хотя было видно, что ему хотелось говорить совсем о другом. Уже когда мы подошли к казарме, он сказал мне:
— У меня в Петрозаводске осталась жена. В тот день, когда пришлось уходить на фронт — я из мобилизованных, — меня отпустили домой прощаться. Проходя базаром, я увидел замечательные подсвечники, на три свечи каждый. Горели на солнце как полированные. Я купил — прощальный подарок. И представьте себе, меня обжулили. Я один из подсвечников стукнул, ставя на стол, и он сломался. Оказалось — гипсовый. Вот вам и подарок!
Кузнецов помолчал, потом прибавил, как будто отвечая на мой вопрос:
— Нет, я не из-за жены хочу вернуться в Россию. Я здесь, во Франции, не могу жить. Ненастоящая страна, выдуманная, да и люди — не люди, все фигуранты. Бабы ненастоящие, одна хлипкость. — И потом пояснил: — Я хочу, чтобы люди были крепкие, живые, а не то, что здесь, — заячий помет под кустиком, — ерунда!
Уже второй месяц мы жили в Конвингтонском лагере. Тоска охватила всех солдат, начиная с Солодова и кончая Мятлевым. Бессмысленные и нелепые ссоры возникали каждую минуту. Вялов постоянно ходил с подбитым глазом — то с правым, то с левым. Фон Шатт заболел сифилисом, хотел застрелиться, но, получив из дома деньги, уехал в Париж — гулять. Вслед за Санниковым еще несколько солдат записались в Иностранный легион, в том числе мрачный Кочкин и Пискарев. Каждый вечер половина казармы напивалась, пьянство «было злое, без песен, с постоянными отвратительными драками. В казарме, несмотря на дырявую крышу и все старания дневальных, появился приторный, неистребимый запах рвоты. Несколько раз нас возили в порт разгружать пароходы. За восемь часов работы мы получали двенадцать франков — в 1920 году это было неплохо.