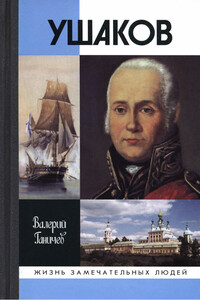История одного путешествия | страница 23
4
Доехав на трамвае до Кур Бельзанс, я пошел по Каннебьеру в сторону старого порта. Толпа раздражала меня. Я остановился на несколько мгновений перед огромной витриной ювелирного магазина. На зеркальных полочках были выставлены фальшивые брильянты с ярлычками. На каждом ярлычке — астрономические цифры: ни один самый захудалый камешек не стоил меньше полумиллиона франков (в Марселе иначе и не могло быть). В зеркальной стене витрины я увидел мое собственное изображение. Солдатская форма плохо сидела на мне — як ней еще не привык. Из-под козырька фуражки, надетой набекрень, высовывался мой нос, — казалось, что, кроме носа, у меня на лице вообще ничего нет. Я, оправил, как мог, шинель, затянул пояс, но бравый солдатский вид так и не получился. Я почувствовал, что очень голоден: на кухне у нас тоже все перепились, и обед был еще несъедобнее обыкновенного. В старом порту, в лавочке, по французскому обыкновению вывалившей на тротуар все свои товары, я купил банку сгущенного молока. Уже отойдя довольно далеко, я сообразил, что мне нечем открыть банку, и завернул в темный портовый кабачок. Хозяин, маленький, чрезвычайно толстый марселец, решил, что банку я украл, и хотел меня отвести в комиссариат. Я еле выскочил из бистро и был рад, что хоть банку у меня не отняли.
Я шел набережными. Вдалеке, как привидение, возвышался мост, ныне уже давно снесенный. Привешенная на стальных тросах платформа переползала через узкое горло старого порта. Пришвартовавшись к набережной, стояли маленькие увеселительные яхты и пароходики. Они были погружены в мрак и тихо покачивались, всхлипывая, на густой воде, в которой колеблющимися кругами отражались редкие газовые фонари. Из кабачков доносились отвратительные, металлические звуки заводного пианино. Слышались хриплые женские голоса: я проходил мимо Сладкой улицы — так наши солдаты прозвали эту кривую улочку, на которой находились притоны.
С тех пор, как я распрощался с Артамоновым, прошло уже часа полтора, но я все еще жил как во сне — и в трамвае, и на Каннебьере, и в кабачке, где у меня чуть не отняли банку сгущенного молока, я воспринимал окружающий меня мир невольно, по привычке, не участвуя в этом восприятии. Я думал о России, ощущал ее в себе, но эти думы и эти ощущения были не связаны друг с другом и хаотичны. Я вспоминал березовые рощи Бутова, Волгу, около Твери — небольшую спокойную реку, побитые дождями, припавшие к земле сырые нивы — и чувствовал, что все это не то. Вспомнил мужиков, сидевших на вокзальной скамейке какого-то потерянного полустанка, вспомнил, как один из них, маленький, скрюченный, весь в серых перьях всклокоченной бороды, сладко зевнул, маленькими крестиками закрывая рот с почерневшими зубами. Я не находил логической связи между этими мужиками и тем чувством восторга, которое охватило меня все же знал, что связь есть и что эта связь между мною, русским солдатом, идущим по набережным марсельского порта, и тем скрюченным мужиком нерушима и неразрывна.