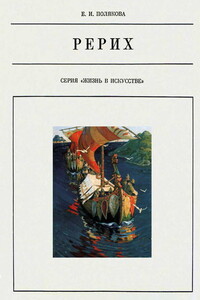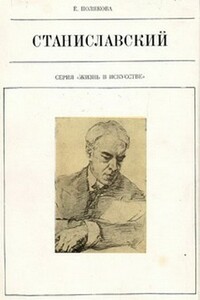Театр Сулержицкого: Этика. Эстетика. Режиссура | страница 46
Пилил, строгал, писал, возился с ребятами, пропиливал лобзиком деревянные кружева в окошке мезонина и пел, как арзамасские соловьи весной. Его завороженно слушал и ему помогал во всем юноша, носивший ту же фамилию — Пешков. Рекомендуемый приемным сыном по имени Зиновий. Пешков-старший и впрямь был ему отцом, только крестным. Дело в том, что сына известного нижегородского часовщика Михаила Свердлова нужно было перевести из иудаизма в православие, чтобы миновать те ограничения, которые стояли перед еврейскими детьми в учебе, в выборе профессии. Брат Зиновия остался в прежней вере. Впрочем, он отрицал любую веру, любую церковь. Сохранил отцовскую фамилию, свое отчество: Свердлов Яков Михайлович.
Арзамас — город православный. Поодаль Саровская пустынь с мощами чудотворца Серафима. Сам город можно назвать городком, но осеняет его гармоничная громада Воскресенского собора. Кажется, что его перенесли в Арзамас чудом, по воздуху, ночью. И утром увидели его изумленные арзамасские обитатели, словно он всегда здесь стоял. Арзамасский собор, словно храм Христа Спасителя, на высоком подиуме — парадной лестнице. Един облик, едино огромное, строгое внутреннее пространство, расписанное своими художниками, вышедшими из здешней Ступинской школы — первой провинциальной художественной школы России. Задолго до приезда Горького умер Ступин. Памятник ему будет поставлен много позже, а память-собор венчает историческую жизнь городка-города. Жизнь эта на редкость насыщена памятью. Памятью Карамзина, Пушкина, общество которых называлось «Арзамас». Памятью Льва Толстого, испытавшего здесь, на постоялом дворе, то, что он назвал — «арзамасский ужас» — страх смерти. Собор — над жизнью Пешковых, Зиновия Пешкова, Сулера.
Память и сегодня течет по улицам Арзамаса, ее сопровождает колокольный звон Саровской обители, строки горьковского «Городка Окурова». «Окуровщина», «окуровцы» — определения, оставленные нам из того времени.
Горький одновременно смеется над окуровскими обывателями и восхищается ими: «Как сложили песню» — рассказ о двух бабах, сидящих на лавочке под окнами горьковской квартиры: «Поглядеть бы на родные-то поля, погулять бы с милым другом по лесам»… Непрерывность этой песни отзовется и в горестно-радостной пьесе и в спектакле «На дне».
Спектакль пройдет с невероятным успехом в Художественном театре в декабре 1902 года. Горький к тому времени уже получит разрешение вернуться в родной Нижний Новгород. Сулер тоже переменит, вернее, ему переменят, место жительства.