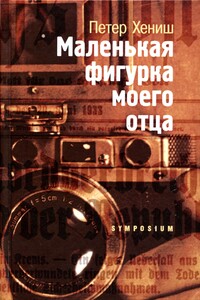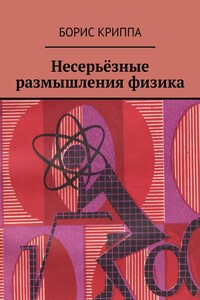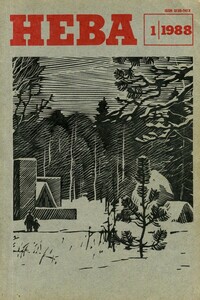Крик совы перед концом сезона | страница 13
Больней всего люди реагировали на продуктовый паралич. Еду не покупали, а «доставали», её не продавали, а «выбрасывали». Слова: «Бегите в магазин, там „выбросили“ колбасу (котлеты, сыр, масло, конфеты)» вызывали не радость, а раздражение. Поэтому, прежде чем ответить на вопрос Нестеренко: «Что ты имеешь в виду?», — Карабанов показал рукой на стол:
— Ты посмотри, как мы живём! Достойно это человека? Если б не Пашина «кормушка», не подарки мне от больных и не база Фетисова, мы бы ели сейчас только лосятину с кислой капустой. Вот это я имею в виду. Нашу жизнь… и государство наше… поганое.
В этот момент Фетисов, ещё не остывший от внимания к себе, снова быстро заговорил:
— Машину увезти, сами понимаете, не две палки колбасы списать. А он, дурак, ничё не боится.
— Подожди ты со своей колбасой, — перебил его Нестеренко. — Тут нам доктор опять заведёт про Америку. Он признаёт только одно государство.
Год назад, также зимой, Карабанов улетел с женой в Соединённые Штаты. Перед тем в Союзе побывал двоюродный брат Сергея Марк. За несколько лет до того он с матерью и отцом эмигрировал в Израиль. Но семья Марка, как многие из рвавшихся якобы в «землю обетованную» евреев, даже не тронулась в ту сторону, а повернула в США. Компания, за исключением Волкова, Марка не видела. Однако столько о нём слышала от доктора, что каждый мысленно нарисовал себе его портрет. Для Нестеренки он почему-то был похож на Карабанова — толстый, губастый, только волосы не редеющие, а густые, курчавые.
Вернулся из Штатов Сергей другим человеком.
— Старик! Карабаса нам подменили, — с растерянной усмешкой сказал Нестеренко Волкову после первой же встречи с доктором на весенней охоте. И в его словах было не столько шутки, сколько недоумённей тревоги: как будто доктора действительно в Америке клонировали и прислали лишь внешне похожего на Карабанова человека. Сергей, и до того глядевший на советскую жизнь критически, теперь использовал каждую раздражающую мелочь окружающего бытия, чтобы подчеркнуть уродливое несовершенство страны. Он всё сравнивал с тем, что увидел в Соединённых Штатах сам и что слышал теперь от новых знакомых на собраниях неизвестного ему раньше Института демократизации. Туда его пригласили телефонным звонком сразу после возвращения, и он регулярно ходил в затрапезный «красный уголок» картонажной фабрики, где проводил свои собрания Институт.
На каждом таком собрании выступал какой-нибудь человек, который, как его представляли, только что приехал «оттуда» — из США, Канады, Западной Европы. Однако до Карабанова очередь почему-то всё не доходила, и он понял, что это выступают инструкторы. Они говорили каждый о своём: об использовании забастовок для борьбы против власти всех уровней, о методах агитации в трудовых коллективах и на митингах — оказывалось, приёмы должны быть разными. При этом инструкторы поначалу советовали не призывать открыто к насильственному разрушению советского режима, а давить на болевые точки стремительно ухудшающейся жизни. В первую очередь — на нехватку продуктов и отсутствие товаров первейшей необходимости. «Все революции, — сказал один из „недавно приехавших“, — начинаются из-за голода. Вспомните, как удалось начать Февральскую революцию 1917 года в России! Царская Россия была одной из немногих воюющих стран, где не вводились карточки: продовольствия было достаточно. Но умные люди перекрыли пути доставки продуктов в Петроград, и голодные женщины в очередях раскачали царизм».