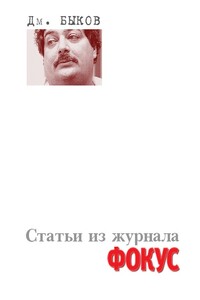Миасская долина | страница 21
— Знаешь, Клава, вероятно, сказывается мужское воспитание. Если бы была жива мама…
— Мама меня бы поддержала. Безусловно! Ты знаешь, какая она была? Мать-командирша — ты же сам называл. Смелая, решительная, твердая…
Афанасий Ильич вздохнул еще раз: да, пожалуй, жена была бы на стороне дочери. Чем-чем, а смелостью и решительностью она отличалась. Было даже обидно, когда братья-педагоги на семейных вечеринках начинали подшучивать: вот бы Любе — штаны, а ему, Афанасию Ильичу, — юбчонку. Больше бы соответствовало характерам.
Очнувшись от воспоминаний, Афанасий Ильич наконец сказал:
— Хорошо. Поступай как знаешь.
Клава чмокнула отца в обе щеки.
— Но имей в виду — выбор твой. Если твоя жизнь окажется неудачной, пеняй на себя. Я тебя предупреждал…
— Предупреждал, папочка, предупреждал, — рассеянно сказала Клава.
С этого дня девушка начала готовиться к отъезду.
В осенний набор она не попала: расхворался отец, и она не решилась оставить его одного. На ее счастье, в тот год техникумы проводили зимний набор, и Клава поехала в ноябре.
Зима была ранняя, навалило много снегу, зачастили морозы. Ровно в полдень к дому Волновых подкатила машина из РТС. Клаву, дочь уважаемого на селе учителя, посадили в кабину. В кузове уже сидели на сундучках пятеро девчат — ехали на курсы комбайнеров.
Прильнул к стеклу Афанасий Ильич. Каракулевая шапка сбилась набекрень. Пряди седых волос порхали по лбу. В глазах — мучительная тоска. Папа, папочка! Нет, я лучше не буду смотреть на тебя! Я не хочу, чтобы Сережка видел, как я реву!
Сережа — безусый шофер, озорной и юркий, — устраивал Клаву поудобней. В порыве усердия засунул ей за спину свою донельзя замызганную телогрейку.
— Растрясет тебя дорогой — отвечай потом перед отцом! — ворчал он еще ломким голосом. — Ох, строгий он был ко мне, когда я учился. — Помолчал и добавил: — Учил, учил, а я все-таки обхитрил его — так дураком и остался.
Клава глотает колючий комок, застрявший в горле, и вытирает слезу.
— Что ты говоришь, Сережка? Какой же ты дурак?
— Ох, дурак, Клавка! Ни в сказке сказать, ни пером описать! Посторонитесь, Афанасий Ильич, — поехали! — крикнул он и залязгал рычагами. Под ногами у Клавы звонко затрещала шестерня.
Клава заглянула в окно между прутьями заградительной решетки и увидела отца. Он стоял по колено в снегу и махал шапкой. Лица уже не было видно, только силуэт.
Клава присмирела. Стало тоскливо. Трудно будет папке одному: старенький, слабенький… И папку жалко, и города страшно. Как-то он встретит? Какая она будет — самостоятельная жизнь? Без папки, одна…