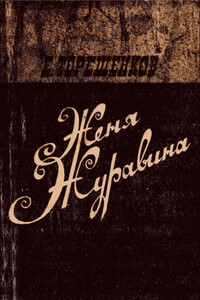Сердце | страница 94
— Значит, и печатать ее не будете? А в Воронеже сказали, что она сохранится даже для далеких веков.
Он усмехнулся. Улыбку его я опять отметил про себя голодной.
— Ну, это я тогда просто ляпнул, не остыв, что называется, от творческого жара. Какие там века! Векам не до наших стишков будет... Пет, эта вещь, пожалуй, не для печати... А вам она нравится?
— Очень нравится! — ответил я восторженно. — По-моему, это лучшее из нынешних стихов, самое искреннее. Только мне многое непонятно... Нет, все понятно, но я не могу понять — почему вы написали так, а не иначе.
Гулевич рассмеялся.
— То есть как же это — так, а не иначе?
— Да понимаете ли, вот что... Мне думается, что, как будто бы... — я смутился и не мог подобрать нужные слова. — Нет, пожалуй, не стоит об этом говорить.
— Почему же? — откликнулся Гулевич с живостью. — Нет, вы, пожалуйста, скажите. Для меня это очень важно.
— Я хочу сказать, — мне непонятно, почему у вас все так грустно. Почему Голгофа? Почему вы написали — сгорим мы быстро? То есть я понимаю, что мы сгорим быстро... но все же, мне кажется, у нас у всех большое будущее и можно пока не думать о смерти... Нет, я не то сказал. Думать можно, но печалиться-то незачем. Вот вы, например, совсем еще молодой...
Гулевич опять усмехнулся.
— Какой же я молодой. Мне скоро тридцать стукнет.
— А разве это старость? Конечно, еще молодой.
И у вас впереди такая содержательная жизнь, столько будет всяких радостей.
— Вы думаете, нас ожидают радости?
— Ну конечно! Вот кончится война, Деникин будет разбит, начнется мирное строительство, коллективный труд... Я это все очень ясно себе представляю. Каждого из нас ожидает напряженное, кипучее творчество, каждый изберет себе какую-нибудь часть общей работы, мы быстро преодолеем разруху и осуществим полный коммунизм. Кроме того, мы создадим пролетарскую культуру. Это такая захватывающая перспектива! Я всего этого жду с нетерпением.
— А если мы не дождемся всего этого, если мы погибнем? — спросил Гулевич с тихой настойчивостью.
Я посмотрел на него с удивлением.
— Как же мы погибнем? Ведь мы с вами в боях не участвуем, фронт от нас далеко... Да! кстати, это я и хотел у вас спросить. Вы вот в поэме все пишете, что у вас винтовка, что вы должны убивать и сами должны погибнуть, а на самом деле вы работаете в газете и никого не убиваете. Тут, по-моему, противоречие...
— Вы думаете, что противоречие?.. Нет... Это, пожалуй... — он запнулся и смотрел на меня в замешательстве, которое я не мог себе объяснить. — Нет, в этом пет никакого противоречия, — сказал он, подумав. — Просто я чувствую и пишу не только за себя, но и за других, за тех, кто на самом деле проливает кровь и сам умирает... Действительно, — он улыбнулся застенчиво, — меня это иногда мучает, что я здесь, в штабе, — пишу стихи, ем блины, а там люди калечатся, замерзают, сходят с ума, теряют жизнь. Я знаю, правда, что плохой из меня вояка и, может быть, в газете я полезней, чем в боевой обстановке... И все-таки мне нелегко с этим примириться. Я утешаю себя только тем, что придет и мой черед...