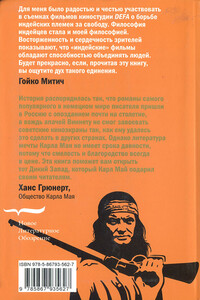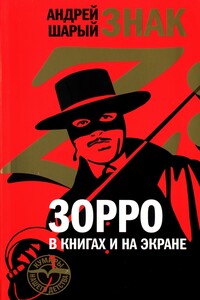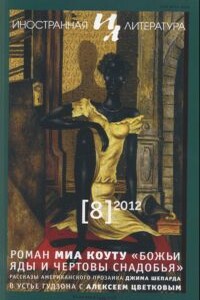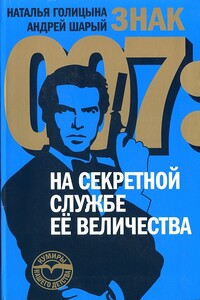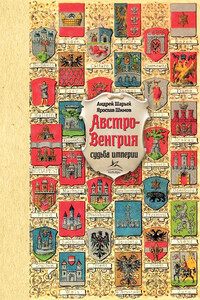Знак D: Дракула в книгах и на экране | страница 21
Основоположником готического романа считают английского прозаика второй половины XVIII века Хораса Уолпола, автора книги «Замок Отранто» (1764), в которой впервые в полной мере сформулированы принципы жанра. Обостренный спрос на такую литературу продержался до середины XIX века. Существует не одна система классификации готических романов, и по любой из них в «Дракуле» нетрудно отыскать родовые пятна жанра — и по замыслу, и по тематике, и по концепции, и по стилю. Такой поиск не слишком обременителен еще и потому, что со временем определение готической культуры расширилось, к ней относят теперь и романы ужасов вообще, и готический рок, и молодежную субкультуру готов.
Различные интерпретации темы паранормального, обычно не лишенные — в большей или меньшей мере — эротического подтекста, мелькали в художественной литературе XVIII века: и в немецкой поэзии эпохи Просвещения, и в английской лирике. Два классических примера «потусторонних» произведений большой английской словесности дали во втором десятилетии XIX столетия вечерние развлечения женевской литературной компании Джорджа Байрона на вилле Diodati. Жена поэта Перси Биши Шелли Мэри Годвин и врач лорда Байрона итальянец Джон Уильям Полидори довели до конца замысел, выросший из дружеских потешных пересказов страшных историй о привидениях: сочинить собственные рассказы на эту тему. Повесть 19-летней Мэри Шелли об ученом, изготовившем чудовищную модель человека, важна в контексте изучения феномена Дракулы еще и потому, что автор «Франкенштейна», рационалистически задумывавшая книгу вроде бы во славу безграничных возможностей науки, завершила свою историю, в отличие от Стокера, пессимистическим выводом: возможности человека куда менее значительны, чем он в своей гордыне надеется. В другом авторы двух книг сходятся: и добро, и зло в мире относительны («Самое ужасное то, что зло глубоко коренится в добре», — говорит стокеровский Ван Хелсинг).
Одновременно с Шелли страшную историю начал в 1816 году сочинять Байрон, и прежде приближавшийся к освоению темы. Тремя годами раньше Байрон вписал в поэму «Гяур» такие строфы: